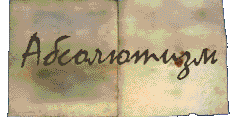
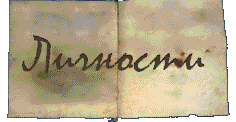
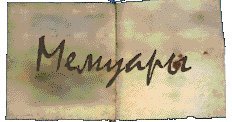
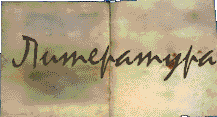

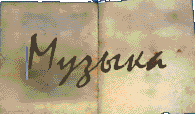
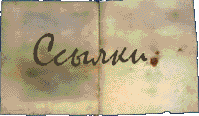
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ III.
ФРОНДА
.
«Дьявол
желает на свет и готовится к этому»
Р.Л. Стивенсон
.
18. Разделяй и
властвуй
.
Сообщения
из Парижа не приходили в Экс-ан-Прованс, Бордо, Руан или Анже как
новости из другого
мира. Следовательно, с позиции получателя, они представляли собой
действительную угрозу или стимул. Они отображали события, которые
вызывали
отклик и задевали непосредственные проблемы местного значения. То, что
случалось в Париже, в конечном счете, оказывалось решающим для всей
Франции.
То, что случалось в провинциях, вызывало в Париже ответные действия со
стороны правительства,
Парламента и фрондеров.
Например,
ситуация в Провансе никогда не была далека от забот Мазарини. Он знал
эту
провинцию достаточно хорошо и поддерживал с ней контакты через своего
друга
Бики, епископа Карпантра. Она была жизненно важной частью его
стратегий.
Марсель был портом для отправки войск в Италию и зимней квартирой для
тех
частей, что возвращались назад. А между тем, Прованс был самой
независимой и
непослушной из всех провинций. Между 1596 и 1715 годами там можно
насчитать 364
'бунта',
в основном, по сути, конечно, мелких хулиганств, но они адаптировали
народ к
вооруженному вызову власти, и власть была в основном местной. Это
хорошо
отражено в том факте, что в Провансе Луи XIV был comte
(графом), но не roi
(королем). Никакой королевский чиновник не мог распоряжаться деньгами
провинции, никакие войска не могли ступить на ее земли без позволения
от procureur du pays (прокурора
провинции).
Налоговое давление на крестьян сильно выросло, но города ограничились
только
своей ежегодной субсидией в 200 000 ливров. К этой несерьезной сумме
Арль и
Марсель больше ничего не дали, защищая вместо этого свои 'свободы',
которые,
как например, в последнем городе, отстаивались свирепой толпой. Никакие
lettre de cachet не
могли урезать
привилегии провинции. Деловые отношения с Провансом принадлежали в
большей
степени царству дипломатии, чем внутреннего управления, а поэтому
практический
опыт Мазарини был здесь как нельзя более востребован.
Губернатор
Прованса, граф д'Алэ, был авторитарной и бестактной личностью. Он был
также
кузеном Конде, который препятствовал прямым деловым отношениям между
губернатором
и Мазарини. Тем не менее, политика, которая заставила его поссориться с
парламентом Экс-ан-Прованса, была политикой короны: создать в
парламенте новые
должности, установить семестры (сроки полномочий),
и настоять, в Экс-ан-Провансе, на выборе консулов,
которые в итоге, как полагали многие, были бы марионетками
правительства. Не
удивительно, что желающих купить должности, после того, как первый,
посмевший
это сделать, был убит, не оказалось. Интендант де Сэв,
один из тех, кого было дозволено оставить при исполнении обязанностей,
был не в
состоянии предотвратить развитие этой фронды в миниатюре. В январе 1649
года
консулы были изгнаны, парламент набрал рекрутов из крестьян, чтобы
защитить
свои интересы и Алэ, имея в своем распоряжении 2 000 солдат, осадил
город. И
парламент и губернатор утверждали, что представляли интересы короля.
Очевидно,
что в сущности корона стала нейтральным агентом между этими двумя
враждующими
сторонами, каждая из которых, будучи обязанной своими полномочиями
именно
короне, стремилась это эксплуатировать. В марте 1649 года Мазарини в
качестве
арбитра послал туда Бики. Он согласился с отменой семестров, но не смог
добиться мира. В июле Алэ, поддерживаемый другими муниципалитетами,
приступил к
осаде Экс-ан-Прованса. На сей раз в качестве посредника Мазарини
назначил
д'Этампа,
но и этот посредник оказался перед тем же самым фундаментальным
затруднением,
что и его предшественник. Мазарини мог приказать, чтобы губернатор снял
осаду,
но у короны не было никаких средств, чтобы заставить последнего
выполнить этот
приказ. Это был урок для молодого короля, над которым стоило
поразмышлять. В
один прекрасный день властям Прованса придется заплатить за эти
беспорядки. Тем
временем, как это обычно водится, за все заплатили мирные жители, когда
Алэ
бросил осаду и предоставил провинцию на разграбление своим войскам. Это
дело
усилило его связи с Конде, особенно после того, как его дочь, по
настоянию
Конде, вышла замуж за герцога де Жуаеза.
У Гиени,
как и у Прованса, также существовали определенные особенности: прежде
всего -
это отдаленность (поездка из Парижа туда занимала не менее семи дней);
наличие
важного морского порта Бордо, имевшего собственный деятельный и
независимый
парламент; а также губернатор Эпернон,
агрессивно реагировавший на все проблемы. Провинция оказалась самой
эффективной
в деле сопротивления короне и губернатору, прежде чем уступить.
Увеличение
тальи особенно тяжело отразилось на ней, а учитывая, что она находилась
на
окраине земель кроканов,
то нельзя было сказать, что эта провинция была незнакома с
крестьянскими восстаниями.
Эпернон предупредил Мазарини в апреле 1648 года, что назревают
беспорядки из-за
создания новых должностей и требования содержать армию на зимних
квартирах и,
что становилось наиболее угрожающим, в них вовлекается дворянство. В
мае в
Бордо появились листовки с подстрекательствами к мятежу. В них
утверждалось,
что губернатор, в союзе с торговцами, вывозит зерно в Испанию. В
результате в
Гиени выросли цены на зерно.
События
там отражают события в столице. В июле 1648 года Эпернон жаловался
Сегье, что было
невозможно предотвратить собрание парламента Бордо и выпуск эдиктов. В
августе
он писал, оправдывая свою позицию по отношению к налогам на вино.
Однако уже к
зиме он готовился к войне, усиливая шато Тромпет, крепость Бордо, и
размещая
там войска. В марте 1649 он раскрыл свои карты. Парламент объявил союз
с
городским муниципалитетом, и при поддержке буржуа, собрал силы среди
ремесленников и местных крестьян. После этого последовала партизанская
война
против сил д'Эпернона, пока Аржансон,
арбитр Мазарини, не уладил дело непрочным миром. Неспособный управлять
своими
сторонниками или поддержать перемирие, парламент выпустил arrêt (постановление), которое
очень много говорит о притязаниях
д'Эпернона: он больше не должен был титуловать себя 'très
puissant prince' (наимогущественнейшим принцем) или печатать
деньги со своим изображением и гербом. Но когда армия Бордо оказалась
не в
состоянии захватить Либурн - цитадель Эпернона, то умеренная партия
парламента
в сущности согласилась на капитуляцию. Мазарини тогда допустил
серьезный
просчет. Дав Эпернону в июле 1649 всю полноту власти, он приостановил
полномочия парламента: наказанный, по-видимому, для острастки,
парламент теперь
опять призвал народ к оружию.
Последовал
бессвязная гражданская война. И только нежелание крестьянства
поддержать
восстание не придало ему размах. Мнение крестьян оказалось традиционно:
'Мы
будем сражаться вместе с вами, но только после сбора урожая!'
Подкрепление,
посланное Мазарини, но так и неоплаченное, в итоге разорило земли,
которые оно,
как предполагалось, должно было защищать; Эпернон собрался уже было
успешно
завершить осаду Бордо, когда Мазарини снова изменил его политику. На
Рождество
король подписал декларацию, удовлетворявшую большинство из требований
бордосцев.
Такое решение представляло собой вынужденную тактическую меру: в этот
момент
главной заботой Мазарини было вернуть расположение принца Конде.
Подобная
стратегия оказалась такой же эфемерной, как и мир в самой Гиени. В
итоге своей
политикой Мазарини предоставил сторонникам Конде готовую партию и
сильный южный
бастион.
Способность
губернатора осуществлять эффективный патронаж зачастую оказывалась
жизненно
важным фактором, который мог определять, останется ли провинция
лояльной. В
Бургундии Конде изначально сотрудничал с парламентом Дижона; поощряя
лояльность, он обеспечил освобождение от налогов, а так же дворянские
титулы
важнейшим советникам. В его интересах было взрастить там своих
сторонников и
иметь среди них основу, на которую можно было положиться. В Бретани
парламент
Рена остался неактивен. Так как номинальным губернатором этой провинции
была
Анна и ее интересы, обычно отсутствующей, представлял Ла Мейерэ, то
причины для
провокации отсутствовали. Гордящийся своими традициями, бретонский
истеблишмент
довольно мудро предпочел остаться в стороне от гражданского конфликта.
Также и
в Лангедоке, где губернатором числился герцог Орлеанский, преобладала
осторожность. Горький опыт, приобретенный за время гугенотских бунтов и
восстания Монморанси, противостоял любому желанию преследовать местные
интересы. Отзыв интендантов был популярен, как и такой жест
доброжелательности
Мазарини, как отзыв эдикта Безье.
То, что парламент Тулузы посвятил много усилия урезанию полномочий
своего
старого врага Chambre de l'Edit
(Эдиктной палаты) наглядно иллюстрирует превалирование узких местных
проблем,
которые препятствовали созданию любого рода общего фронта против
правительства;
и что на самом деле вообще отсутствовала любая идея о такого рода
необходимости.
В
двух провинциях происходили серьезные движения по отношению к фрондерам
и
Парламенту. Частично причиной этому были традиции протеста; но главным
образом
- действия местного аристократа. В Анжу,
где герцог де ла Тремуй объявил о Фронде, Анже открыл свои ворота перед
ним.
После Рюэйльского мира в апреле 1649 он заключил мир с короной.
Законный
губернатор Майе-Брезе тогда установил муниципальное управление
традиционного
стиля. Но это все еще не был конец истории.
Анжу
была важной провинцией короны, а Нормандия - жизненно необходимой. Это
была
самая богатая область, естественно наиболее сильно обложенная налогами.
Суровое обращение с провинцией после восстания Босоногих оставило там
большую
обиду. Парламент Руана, распущенный 1639 году, был восстановлен на
принципе
семестра, где должности заняли новые чиновники, разделившие свои
обязанности.
Парламент ссорился с губернатором Лонгвилем из-за создания им новых
должностей
для своей clientèle (клиентелы).
Он
использовал все свое влияние, чтобы держать провинцию в повиновении,
ровно до
тех пор, пока волнения в ней не стали удовлетворять его собственным
замыслам. Когда,
в январе 1649, он присоединился к Конти и фрондерам, он попытался
поднять
провинцию. Поддержка оказалась неоднородной, но друзья Лонгвиля в Руане
закрыли
ворота города перед новым губернатором Аркуром, назначенным Мазарини.
Лонгвиля,
прибывшего в Руан по реке на лодке и попавшего в город через задние
ворота
около Сены, приветствовала толпа черни. Парламент подчинился, и
нормандская
фронда стартовала. Она прекратилась с заключением мира в Рюэле.
Небольшие
уступки оказались всем тем, что с легкостью обеспечило лояльность
парламента и
города: отмена семестра и обещания не вводить больше налогов без
согласия и
ратификации верховных судов. В итоге Нормандия осталась спокойной, и
даже равнодушной
к аресту своего прежнего губернатора в 1650 году и к его возвращению в
1651. В
этой провинции, имевшей больше всех остальных поводов для недовольства,
осталось не слишком много энтузиазма в отношении восстания: с самого
начала
фронда там была неохотной, развивалась вполсилы и была с легкостью
подавлена.
Оказалось,
что Мазарини заблуждался в своих опасениях относительно того, что
Фронда
последует английским или даже республиканским курсом. Вопреки его
страхам она
осталась, по существу, умеренным движением по двум основным причинам.
Во-первых, корона и Парламент, au fond
(в сущности), разделяли представление о монархии как о незыблемой.
Во-вторых,
Парламент и дворяне так и не стали единой эффективной силой. Краткий
период
предпринятого ими сотрудничества выявил наличие между ними
несовместимых
ценностей. Одна привилегированная элита должна была победить другую. И
если
дворяне должны были пойти своим собственным путем, то только серьезные
промахи
со стороны короны могли побудить Парламент дать им объединенное
руководство или
даже выборочную поддержку. Рюэльский мир, конечно, завершил фазу
конфликта
между короной и Парламентом. Однако это не принесло облегчения регентше
или
безопасности Мазарини; и совершенно очевидно, что этот мирное
соглашение вовсе
не принесло мира в страну. И действительно, слово 'мир' оказалось
неподходящим
для соглашения, подписанного под принуждением, а потому не
расценивавшимся ни
Анной, ни Мазарини как окончательное или обязательное, а только как
подходящее
для их временных тактических целей. Большинство дворян было поглощено
намерениями бороться дальше: новые люди постоянно присоединялись то к
одной, то
к другой фракции, зарабатывая известность на названии фрондера: неясное
в своем
значении, это прозвище все еще являлось отличительным признаком.
Некоторые
аристократки, склонные к политике, были очарованы идеей приглашения в
высшие
политические сферы. Парламент также мог содействовать в вовлечении в
запутанную
систему интриг.
Таким
образом, страна плавно скатывалась в дальнейший самоубийственный
период. Годы с
1649 по 1653 занимают место рядом с самыми темными днями Религиозных
войн конца
шестнадцатого века как период внутригражданского насилия. Причины и
мотивы
этому вариабельны и уникальны, и могут быть идентифицированы главным
образом в
терминах привязанностей, порожденных внутри семейной
clientèle или феодальной
связи, наряду с отдельными амбициями и любовными приключениями. Не
смотря на
окраску культом героя, который находит свою реализацию в преследовании
только славы,
в своей основе аристократическая Фронда - это продолжение реакционной
борьбы
небольшого количества знатных семей и их сторонников, поддерживавших
свое
представление об альтернативном режиме, который обязан был бы принимать
во
внимание их важность, отдавая должное аристократичности их
происхождения,
традиции и большим владениям. Внутри их разношерстных рядов
существовало
несколько групп, каждая из которых была набрана из оригинальных
фрондерских
фракций. Партия Гонди придерживалась убеждения своего лидера в том, что
именно они
и были настоящей Фрондой. После апреля он избегал силы, а еще раньше
большинство военных покинуло его фракцию. Его заявленная цель в
поддержке
сопротивления состояла в том, чтобы укреплять реформы, принятые в Рюэле
и
производить чистку правительства Анны. Неизменно популярный,
альтруистичный, но
находящий определенное удовольствие в своей неожиданной известности,
Пьер
Брусель продолжал звучать как честный голос парижан. Благоприятный
образ его
выгодно контрастировал с суетливым самозваным лидером фрондеров.
'У
него талант смешивать порох со своим елеем', проворчал Моле о Гонди,
когда последний
появился в Парламенте для регистрации Рюэльского соглашения после
совершения
церемонии миропомазания в Нотр-Даме. Когда Гонди произносил волнующую
проповедь
о христианском милосердии в церкви Сен-Жермен-д'Оксеруа, около Лувра,
он
мучительно страдал от венерической болезни, результата своей недавней
связи с
герцогиней де Брисак. В настоящее же время его любовницей была
очаровательная
дочь мадам де Шеврез.
Он позволял себе выглядеть лицемером и шарлатаном; он несомненно был
беспринципным и блудливым. Для усердных curés
(кюре), которые поддерживали политические традиции парижского
духовенства, он
мог быть dévôt
(благочестивым); для
светских конгрегаций он мог проповедовать изящные проповеди; для
политических
союзников он мог играть роль 'Макиавелли'; для льстивых хозяек салонов
-
римского героя, или даже honnête
homme
(честного человека), воплощая собой générosité
(благородство) и vertu (добродетель).
Для читателя гораздо легче восхищаться той богатой образностью
энергией, с
которой он играл свои роли, чем Анне, которая была возмущена его
самомнением и
неприкрытым участием в заговорах, или Мазарини, который мог больше
всего
проиграть от его ревнивого соперничества.
В
конце-концов Гонди оказался личностью, отвергнутой не только при дворе
или в
лагере Конди, но также и среди других фрондеров. Иногда, он, кажется,
сам
терялся в лабиринте своих собственных интриг. В марте 1649, он
согласился
искать согласия с испанцами во Фландрии, только убедившись, что Буйон и
Эльбеф
будут его прикрывать. Когда они попытались заключить открытое
соглашение с
Испанией, он ретировался, опасаясь потерять доверие в Парламенте. В
итоге все
его великие концепции свелись к горячему желанию стать кардиналом. В
удовлетворении этой амбиции Мазарини смог искусно нейтрализовать его до
тех
пор, пока не оказалось возможности его удалить. Тогда ему осталось
только
получать удовольствие от создания своих мемуаров. И здесь, по иронии
судьбы, в
этой истории личной неудачи, приукрашенной очень субъективными
воспоминаниями,
он достиг своего рода величия, поскольку присоединился к избранной
группе
французских писателей, с Сен-Симоном, Прустом и мадам де Севинье во
главе,
которые раскрыли себя через описание других. Но все это было в будущем.
А на
данный момент к нему требовалось относиться более чем серьезно.
Другая
личность, демонстрировавшая свои фокусы как при насыщенном сплетнями
дворе, так
и в hôtels (дворцах)
парижских
фрондеров, носила имя Шатонёфа, который к тому времени уже был
ветераном
интриг, поскольку вел очень активную политическую деятельность.
Обманутые
надежды только обострили его амбиции достигнуть власти если уж не в
виде
первого министра, то хотя бы канцлером. Он возлагал большие надежды на
Анну, в
круг которой он когда-то раньше был введен покровительством мадам де
Шеврез; он
был одним из вереницы поклонников, которых эта тщеславная женщина
сохраняла на
привязи для своих заговорщических игр. Мазарини, кого она терпеть не
могла, и
не в последнюю очередь за то, что он, занимая выгодную позицию при
Анне,
блокировал пути для Шатонёфа. Арест и заключение в 1648 Шатонёфа в
тюрьму, повысили
его статус среди фрондеров, и он не верил, что его время в политике уже
завершилось.
Герцог де Бофор, со своей гривой светлых волос и непринужденными
манерами, а
теперь, вдобавок к хвастовству, еще и с некоторыми военными успехами,
любимец
парижской толпы, возможно, думал, что его час как раз пробил. Он тоже
пострадал
от участия в заговоре, будучи руководителем Cabale
des importants (заговора важных), и за это провел пять лет в
тюрьме.
Ненавидя Мазарини, но обиженный также и на Конде, Бофор теперь нес
знамя за
своего отца Вандома. Бофор стремился возвратить своей семье должность
губернатора Бретани и Адмиралтейство: Ришелье в свое время отнял это у
них, а
Анна обратно не вернула. При всем его дружелюбии не было ничего мягкого
в этой
веточке дерева Бурбонов: он не уклонился от планирования убийства
Мазарини, и
он мог драться на дуэли из-за малейшего предлога.
Рождение
дало принцу Конде еще лучшее начало, чем всем предыдущим, но именно его
быстрый
ум и потрясающая уверенность в себе, с триумфом доказанная в сражениях,
сделали
из него наиболее знаменитого молодого человека в Европе. В его победах
не было
ничего случайного. Он был храбр на поле битвы, но головой своей не
рисковал.
Его неряшливость была общеизвестна, как и манеры, объединявшие в себе
аристократическое высокомерие с крестьянской грубостью; безразличный к
своей
жене,
он страдал теми переменами настроения, которые могут предполагать
наличие у
него некоторых черт безумия. Намеренно небрежный к своей репутации, он
был все
же сколь быстр, чтобы обижаться самому, как и наносить обиды другим.
Конде был
глубоко сложным человеком, поведение которого невозможно объяснить
только с
точки зрения рано появившейся у него известности. Эгоцентричный и
жадный до
признания, каким он предстает во время более поздних этапов Фронды, он
также
демонстрировал в течение первых лет регентства свою лояльность и
понимание, как
к королю, так и к Анне. Он позволил предубеждению так омрачить свои
взгляды,
что в них трудно увидеть то, что он хотел или намеревался сделать на
самом
деле. И все же у него, кажется, были мысли, выходившие за пределы
обычных
интересов аристократа, со стремлением анализировать, которое усилилось
у него к
подагрической старости, когда он стал покровителем писателей и
философов в
своем шато Шантильи. Его рекомендации, по сравнению с военным
нападением на
Париж в 1648, могли быть благоразумно умеренными. Позднее, он,
очевидно,
разрывался между обязательствами перед молодым королем и личными
амбициями,
неясными, но неистово выраженными в требовании неограниченной власти.
Он,
возможно, был подданным; но он также был Бурбоном и мешал Вандому и
Бофору
думать о легитимации своей ветви.
Несмотря,
в конечном счете, на его бесполезную линию поведения во время Фронды,
не трудно
понять, почему мужчины назвали его 'le
grand Condé' (Великий Конде). В другом окружении,
где существовал более
высокий идеал для подражания, он, возможно, выделялся как прекрасная
личность. И
действительно, позднее он служил своему королю с отличием и выиграл еще
много
сражений. Но быть командующим в области, где никто не мог задавать ему
вопросов
было одним делом; работать же совместно с другими для достижения
политических
целей - совсем другим. Тем временем, воплощая Фронду в одновременно
самодраматизированной и саморазрушительной личности, он был глубоко
удручен, не
находя точки применения своим талантам. Для дипломатических переговоров
он не
имел ни терпения, ни склонности. Скорее он, кажется, даже получал
удовольствие
от проталкивания своих требований к чрезмерному пределу. Возможно, что
владения, титулы и должности, которые он требовал и получал от
Мазарини, давали
ему повод думать, что настало время тому, чтобы бросить ему вызов, став
заменой
для реальной власти, какой, как казалось, обладал Мазарини.
Высокомерный к
брату, который посмел выступить против него, а также имея мало времени
на
своего кузена Орлеана, он становился все в большей степени обиженным на
Мазарини, а поэтому все более уязвимым перед побуждениями женщины,
которая
имела на него определенное влияние - своей сестры, герцогини Лонгвиль.
Она, в
большей степени, чем миниатюрная принцесса Конде, которой приходилось
энергично
бороться за внимание своего мужа, обладала способностями, полученными
инстинктивно и через воспитание, которые помогали ей понять его.
В
1649, когда проигрыш был все еще невообразим, сила фракции Конде
находилась не
в Париже, но, по традиции les grands
(грандов), в провинции: на востоке, в Бургундии и Шампани, где он и его
брат
Конти (который покинул фрондеров после Рюэльского мира) были
губернаторами; а
после 1651, когда Конде сменил должность губернатора - в Гиени. Хотя
большинство парижан никогда не могли простить ему осаду 1649 года, он
все же
сохранил поддержку в столице. Судья Делан-Пэйен и президенты Виоль и
Немон были
его главными агентами. Последний занимался управлением его имуществом,
пока
принц находился в 1650 году в тюрьме. В том году пропаганда Конде была
эффективна,
а сочувствие к нему - сильно. Моле, некоторое
время в самом
начале, и Брусель, одухотворенный, а возможно и ослепленный, были теми
двумя
неправдоподобными людьми, которые попали под обаяние Конде. Сын Моле
перед
Фрондой был интендантом в армии Конде: фрондер-ветеран в итоге стал в
1652 году
prévôt des
marchands (городским
головой) в Париже Конде. Такие неправдоподобные связи демонстрируют
только то,
что могло бы произойти, если бы Конде был способен сотрудничать с
людьми, находившимися
ниже его по статусу.
Генерал-лейтенант
регентства, Гастон Орлеанский, казалось, был более благоразумным, а
возможно,
после 1643 года, более несчастным человеком. Мазарини был объектом его
зависти,
как и то, что он был неудовлетворен в своих амбициях. Все это должно
было в
итоге заставить его симпатизировать и фрондерам и приверженцам Конде;
ограничение таких неуправляемых тенденций было его сентиментальной
преданностью
Луи и готовностью служить Анне в трудностях регентства. Однако в целом
он не
был эффективен ни как защитник короны, ни как вероятная альтернатива
Мазарини. За
последнее время он стал в большей степени вовлечен в дела с
Парламентом;
временами его мнение раскачивало дебаты: он редко управлял с полной
уверенностью. Во всех своих очевидных отличительных манерах, исключая
юмор, он
предстает как некая пафосная личность. И это впечатление только
усиливается в
сравнении с энергией и прямотой его отважной дочери, la
Grande Mademoiselle (Великой Мадемуазель).
Ясно,
что Мазарини не пришлось считаться ни с согласованной массой врагов, ни
с
неоспоримым лидером среди них. Однако, они [враги] были способны
объединиться
из-за одного спорного вопроса: а именно того, что он остается первым
министром.
Он не мог положиться исключительно только на благорасположение Анны; а
поскольку
уже итак было слишком много поставлено на карту, даже в конечном счете
безопасность короля, он не мог сделать ее живым щитом между собой и
теми, кто
требовал его опалы. Поэтому он искал любую возможность увеличить свою
собственную партию. В большинстве своем она сохранилась даже во время
периодов
его изгнания. Конечно, политическая нация временами была столь
фрагментирована,
что мазаринисты кажутся просто фракцией, аналогично любой другой из
своего
периода. Однако существенное отличие ее было в том, что некоторые из créatures (креатур) Мазарини
одновременно
являлись незаменимыми чиновниками королевского правительства.
По
крайней мере, Мазарини точно знал, чего хочет он сам: остаться, чтобы
иметь
возможность служить королю, будучи, конечно, необходимым для него;
гарантировать короне сохранение достаточной власти управлять
государством; и, в
конечном счете, закончить свою politique,
обеспечив поражение Испании. В границах этих целей он фильтровал и
оценивал
информацию, которая в большом объеме поступала ему от собственных
агентов и
принимал решение действовать согласно ситуации. Иногда эти действия
были
решительными, иногда держались в тени, но неизменно - непредсказуемыми.
Он не
мог не совершать ошибок, но он все время учился. А как иначе он мог
теперь играть
себе на руку? Он не преследовал попыток
создать широкую коалицию
из таких несоизмеримых и взаимно враждебных групп, его центральной
заботой,
которая стояла выше проблемы банального выживания, было создание
внутренних
альянсов, служащих потребностям его внешней политики. Но как это было
тогда
возможно, в то время как Тюрен продемонстрировал, что он не может
положиться на
генерала, обеспеченного ресурсами для ведения войны, используя его
армию против
Испании? Поэтому для него было естественно возвратиться к
последнему оружию
дипломата: разделяй и властвуй. Его тактика работала на усиление
напряжения,
обострение вражды, и поощряла применение насилия.
|