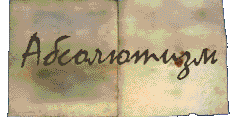
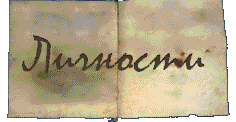
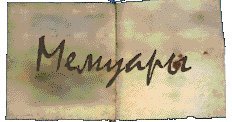
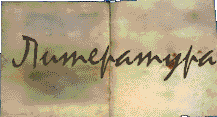

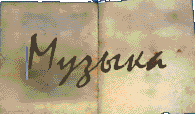
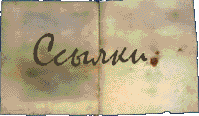
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ III.
ФРОНДА
.
«Дьявол
желает на свет и готовится к этому»
Р.Л. Стивенсон
.
17. Первая
гражданская война
.
Фронда
до сих пор трактовалась как дело Парижа. Гнетущее, шаткое равновесие,
которое
последовало за Декларацией Сен-Жермен, было уязвимо перед крупным
потрясением в
провинции, вызовом со стороны любого сообщества аристократов или
ответной королевской
контратаки. Все из этого еще должно было произойти в будущем. Тем
временем
налогоплательщики повсюду спрятали свои су и радовались недолгому
налоговому
празднику: этот нездоровый ветер принес немного пользы. Офицеры
возвращались
домой на зимний отпуск. Их генералам предстояло справляться с
раздраженными
войсками, сбивающими с толку привязанностями и противоречивыми
советами. Самая
великолепная звезда на военном небосклоне, Конде, теперь искал
признание и
награду за пределами того, что он уже итак получил. Герцог Орлеанский
жаждал
популярности, негодовал на Мазарини и без толку болтал о гармонии между
короной
и Парламентом. Анна не понимала до конца, что он подразумевал под этим;
но так
или иначе, она ему не доверяла. В то время как Лонгвиль все еще
оставался
лоялен короне в своей собственной трудной манере, его жена пользовалась
шансом
поиграть в политические и любовные игры. Ее брат, Арман де Конти,
нуждался не в слишком сильном убеждении, чтобы попытаться примерить на
себя
более значимую роль, чем та, которую он имел до этого как неоцененный
младший
брат известного генерала. Его имя, богатство и положение губернатора
Шампани,
провинции на уязвимом восточном фланге Франции, обеспечивали ему
выдающееся
положение, для которого его личность и способности не сделали
практически
ничего, чтобы заслужить. Принц Марийяк был больше известен в более
старшем
возрасте как герцог де ла Рошфуко,
и, как возможно, мудрый автор «Максим». В пору
своей пылкой юности он был
любовником мадам де Лонгвиль. Нормандия Лонгвиля, Шампань Конти,
поместья
Марийяка и связи на юго-западе: здесь оказались огромная база и ресурсы
для
возникновения мятежа.
Но
что сделало аристократических заговорщиков еще более опасными, так это
то, что
у них были друзья в Парламенте. Личные обиды или амбиции, возможно,
влекли
старших юристов в более опасную игру, чем та, в которую они до сих пор
играли.
Президенты Новьон и Виоль, возможно, воображали себя в роли английских
парламентариев, авторов политической революции, по сравнению с которой
Фронда
пока что была просто игрой. Возможно, они и сами едва знали, что же
все-таки
соблазнило их на мятеж. Были раздражены ведущей ролью таких же
решительных Моле
и Талона? Социальное чутье, конечно, тут тоже не бездействовало: это
было
совсем не мелочью принимать принца Бурбона в своем доме. Настроение
парижан
также способствовало смелым речам. Хлеб все еще оставался дорогим,
слухи
имелись в большом количестве, зима обещала быть безрадостной. Mazarinades (мазаринады) напоминали
судье и торговцу тканями, вероятно, истинного врага: быть настроенным
против
итальянца, который таким вопиюще неверным образом направлял регентшу и
короля,
было наилучшим бальзамом, который могла предложить совесть.
Мазарини
был неизменно хорошо обо всем осведомлен. Однажды он нарисовал перед
Гонди
перспективу стать губернатором Парижа вместо восьмидесятилетнего
Монбазона.
Гонди не соблазнился, тогда Мазарини, предпочел застраховать себя,
насколько он
это мог, лояльностью герцога Орлеанского и Конде. Он пригласил аббата
де ла
Ривьера,
склонного к политике исповедника герцога Орлеанского, в совет. Он
поощрял Конде
мечтать об условиях высшей власти при дворе, неясно определенной, но
нарисованной
в виде крепостей на восточной границе. Это была, по всей вероятности,
единственная политика, которую он мог предпринять, но она была
краткосрочной и
порочной. Было ли место одновременно и для Конде и для герцога
Орлеанского? Как
другие представители знати отреагировали бы на апофеоз Конде? Как это
могло
улучшить запятнанную репутацию Мазарини, если он с такой готовностью
унижал
себя сам? Но без добавления новых обид было маловероятно, чтобы
Парламент, как
корпорация, в отличие от нескольких недовольных оппозиционеров, мог бы
поддержать независимые действия группы, или даже двух, знати; а без
такого
одобрения эти дворяне были бы слишком опрометчивы даже в этот момент, и
даже те
из них, кто рисковал собой во время войны. Провал Монморанси и его
казнь в 1632
году, как подразумевалось Луи XIII, должны были служить
предостережением об
опасности открытого восстания. В этой ситуации, то, к чему стремились
Анна и
Мазарини - к примирению или к провокации, подразумевало выбор между
миром и
войной.
Конечно,
бездействие было не лучшим, что можно было бы рекомендовать в подобной
ситуации.
Все донесения были удручающими, и министры чувствовали себя на осадном
положении; земля ускользала у них из под ног. Не в характере Анны было
смиряться с поражением, как и не в характере Мазарини перестать думать
о новых
уловках. В его мыслях все еще преобладала война против Испании; сильная
кампания 1649 года могла бы заставить Испанию искать мира. Поэтому
открытый
отказ от реформ, предписанных или обещанных Декларацией, был немыслим.
Сегье
советовал Мазарини продолжать вести дела мягко, без явного нарушения
права.
Таким образом, traitants (откупщикам)
бы напомнили о худшей альтернативе: отказать в деньгах означало бы
разрушить
государство и открыть себя для мести. Любые авансы, которые смог
получить Ла
Мейерэ, сразу же уходили в армии. Выплаты по рентам и жалованиям были
отсрочены. Регистрации этого решения, а вместе с этим и повода для
протеста,
правительство смогло избежать, поскольку формально это не было
увеличением
налогообложения. Cour des Aides
(Высший податной суд) попросили одобрить гибкое использование тальи, а Chambre des Comptes (Счетную палату) -
убрать контроль над comptants
(платежами наличными). Мазарини надеялся, что суды поссорятся из-за
своих
соответствующих инструкций и прав. И действительно, их общий фронт был
скорее вещью
прошлого. Но теперь они сопротивлялись по отдельности: они осуществили
регистрацию прошений, но с ущербными поправками.
Тем
временем у Парламента не было никаких формальных дел, и его пленарное
заседание,
объявленное в декабре, оказалось провокационным актом само по себе.
Парламентарии
утверждали, что поскольку имели полномочия по проведению реформы жизнь,
то были
обязаны расследовать жалобы об уклонении от нее. Моле, находясь под
давлением
своих коллег, защищал законность проведения слушаний. Герцог Орлеанский
и принц
Конде, представлявшие корону, были извещены Парламентом о нарушениях
Декларации. Несколько провокаторов-радикалов организовали атаку на
Мазарини за
его нежелание заключить мир с Испанией. Президент Новьон зашел
настолько
далеко, что принялся утверждать, что только Парламент мог быть
надлежащим
местом, могущим разрешать объявление войны, соглашения и союзы; целая
новая
доктрина, однако. Мазарини прекрасно знал о том, что Новьон относился к
клиентеле
Конде, а потому не слишком впечатлился досадными заявлениями
президента. Тем не
менее, Конде, на которого была возложена ответственность за королевский
дом,
возможно, был искренен, когда опровергал обвинения в расточительности.
Также он
оказался разгневан на жалобы Парламента о недисциплинированности его
войск,
размещенных теперь около Парижа. Он имел мало времени на судей, 'этих
дьяволов
в квадратных шляпах'. Вероятно, он также был искренен, когда заявил:
'меня
зовут Луи де Бурбон, и расстраивать трон – это не мое
желание'. Он не доверял
Гонди и, без сомнения, с удовольствием сообщал ему, что его
друг-заговорщик
Нуармутье
ведет тайную переписку с Мазарини. Особую проблему для Мазарини
представляла
чрезмерная гордость Конде: за исключением короля, он был одним из
первых лиц
королевства. Герцог Орлеанский был более податлив и фактически сумел
договориться
с Бруселем об официальных формулировках, позволивших избежать
дальнейших споров
о назначении комитета по расследованию предполагаемых нарушений
Декларации. Это
было даже больше, чем необходимо, для того, чтобы сохранить мир.
В
конце декабря 1648 Парламент выпустил arrêts
(постановление) о своих собственных полномочиях и настоял на
расследовании
нарушений, совершенных в отношении Декларации. Признания Счетной
палатой и
Высшим податным судом прав короны получить аванс из доходов
символизировали
успех политики Мазарини 'разделяй и завоевывай': это вызвало сильное
беспокойство
Парламента, и Моле вынужден был назначить на 8 января пленарное
заседание суда.
Тем временем Анна получала из Англии печальные новости, где низложенный
король
находился под трибуналом. Карл I, как это считал Мазарини, призвал свою
судьбу
своей предварительной слабостью: он позволил, чтобы его министр
Страффорд был
сначала подвергнут судебному преследованию, а впоследствии казнен.
Анна была тронута печальной историей свой невестки Генриетты-Марии.
Крушение
Карла I началось с финансовой несостоятельности. Все еще желая
примирения с
Парламентом, Ла Мейерэ начал новый раунд о ценах за налоговые
контракты. Однако
этот процесс не убедил Мазарини подумать о том, что имеется другая
альтернатива
военным действиям. Он полагал, что Парламент необходимо изолировать, и
что
Ратуша сможет действительно служить короне, если ей единожды отдать об
этом
указание. Если правительство удалится из столицы и оставит Парламент
расплачиваться за все, то голодные люди увидят в нем автора всех своих
бедствий:
и тогда короля попросят вернуться обратно. Следовательно, все указывало
на
атаку или осаду города. Анна заявила, что предпочтет 'Париж разрушенный
Парижу
непослушному'. Однако в отношении тактики существовали разногласия. Ла
Мейерэ
убеждал нанести удар внутри столицы, начиная с Бастилии. Конде отвергал
идею
уличных боев против гражданских лиц и солдат-добровольцев. Он
предполагал, что
осада будет более благородным и эффективным решением: она должна будет
привести
или к сдаче города или к открытому сражению в случае, если городу
придет
помощь. Ле Телье предпочитал экономическую блокаду. Окончательный план
был
разработкой именно этой идеи. В войне суверена против своих собственных
подданных необходимо было по возможности избегать бесполезного
кровопролития.
Было понятно, что будет трудно заставить солдат относиться к осажденным
по-братски или быть деликатными с их собственностью. Однако приступать
к делу
со слишком большой мягкостью тоже было бы пагубно. А поскольку армию
было
необходимо весной уже снова разворачивать на границе, то победа
требовалась
быстрая и решительная.
Вечером
5 января королевская семья праздновала канун Богоявления в традиционном
стиле.
Поделив 'Пирог Трех Королей' и с удовольствием подчинившись тому, чтобы
быть коронованной
как 'королева боба', Анна пребывала в приподнятом настроении, как будто
даже в
предвкушении приключения. Даже мадам де Мотвиль была исключена из
хорошо
охраняемой тайны и оставлена в Париже; она на собственно опыте испытала
людскую
ярость: 'в течение двух дней и ночей мы слышали непрерывный крик "aux armes (к
оружию!)" '. После того, как двери дворца были закрыты на
ночь, и все утихло, Луи был разбужен. С Вийеруа
и Мадемуазель,
составившей ему компанию, королевская карета спокойно выехала из города
и
направилась в Сен-Жермен, где Мазарини и Ла Мейерэ должны были их
встретить. В château
(замке) не было ничего
приготовлено: ни кроватей, ни огня, поскольку приготовления могли
привести
Париж в боевую готовность. Мазарини, однако, для королевы, ее сыновей и
себя
нашел походные кровати. Мадемуазель испытывала меньший восторг, но
заметила,
что Анна, 'возможно, не была бы более счастлива, даже если бы она
выиграла
сражение, взяла Париж и перевесила там всех, кто раздражал ее'. Тайна,
удивление, испуг царили в Париже: все были очень сильно возбуждены.
Ликующая
королева приказала, чтобы Конде обеспечил ключевые позиции вокруг
столицы
Анна
продолжила перегибать палку, отправив в столицу сообщение, в котором
обвинила
некоторых парламентариев в организации заговора по захвату короля.
Возможно,
она на самом деле верила в это. Агент Мазарини Лион,
написал, что, если бы королевская семья не покинула Париж, то была бы
отдана на
милость толпе. Но обвинять без существенных доказательств означало
клеветать;
оскорблением была и посылка депеши Ратуше, а не Парламенту; опрометчиво
было
форсировать результат, приказывая верховным судам удалиться в четыре
города,
находящихся на расстоянии не ближе шестидесяти миль от Парижа:
Монтаржи,
Орлеан, Реймс и Мант. Даже если, как высказывает Мут, Анной двигало
'решение
предотвратить распространение примера английской гражданской войны',
это было
безрассудство, поднимавшее республиканскую проблему, за которое
Мазарини также
должен разделить ответственность наряду с королевой, поскольку все это
отражено
в замечаниях в его записной книжке. Он предпочел бы более спокойный
стиль, чем
Анна, но его намерения совершенно ясны, и меморандум Лиона стал
заключением. 'Мы
непоколебимы в пожелании того, чтобы полностью восстановить власть
короля; то
есть, все, что произошло в течение прошлых восьми месяцев должно быть
удаленно
из его [Парламента] регистров и стерто из всей памяти.' Это было так,
как если
бы 1648 год и Декларация, подписанная в том самом месте, где Анна и
Мазарини
теперь объявляли войну Парламенту, никогда не существовали. Парламент
теперь
стал мятежным, чтобы противостоять их требованию подчиниться.
Война
в семнадцатом столетии была безобразным предприятием. Где бы то ни
было, как в
пределах границ земель восточной Франции, осады, засады, набеги
диктовали место
действия; везде, где деревни лежали в пределах диапазона военных
патрулей,
добывающих продовольствие, к обычным рискам для жизни человека
добавлялось
беспорядочное насилие солдата. Ожесточенный жизнью вне цивилизованной
периферии, он жил по собственным правилам и мог вести себя по отношению
к своим
соотечественникам не лучше, чем к иностранцам. Многие из наемных войск,
конечно, состояли не из французов. Но это имело не слишком много
значения. Самое
благотворное достижение военной реформы - обеспечение армий эффективным
гражданским контролем, с обеспечением адекватного размещения на постой
и снабжения,
все еще находилось в процессе реализации. Применить армию во внутреннем
конфликте означало принять на себя серьезную ответственность. Тем
временем,
резкий тон писем Анны испортил любой шанс на урегулирование, которое,
возможно,
могло стать результатом компромисса принципов и прощением отдельных
людей.
Реакция Моле оказалась угрожающей. Он неоднократно доказывал, что его
главной
целью всегда было поддерживать власть короны. И все же он написал о
Конде,
двигающемся на Париж: 'те, кто дал этот совет, не могут быть достаточно
наказаны;
этот удар сотрясет корону; это не возместится в течение долгого
времени'. Разве
могли те, кто имели столь явный интерес к миру и порядку потерять это
из виду,
если бы они не смотрели в туманное будущее глазами, налитыми кровью от
гордости
и гнева? Каким еще образом могли юристы, более привыкшие к войне слов,
быть
вовлеченными в обязательства, в которых им пришлось принять помощь
знатных
дворян, действительно знавших кое-что о войне и слишком готовых
сражаться?
Однажды связав себя обязательствами, какое еще решение они могли найти
для себя?
Тем
временем с обеих сторон была предпринята юридическая "пикировка".
Парламент уклонился от получения приказов о своем изгнании, отсылая их
назад
нераспечатанными с королевскими поверенными, приказав последним
отправиться в
Сен-Жермен, чтобы попросить указать «главу и стих»
[то есть основания и
доказательства] в общем обвинении в измене. Заставив их прождать в
течение
нескольких часов, Анна в итоге отказалась принять поверенных. Сегье
подчеркнул,
что у Парламента не будет никакой юридической власти до тех пор, пока
он не
обоснуется в Монтаржи. Однако Парламент не дрогнул перед этой атакой.
Согласно
Ормесону, только дюжина из парламентариев представляла собой
действительных
радикалов; и все же теперь даже большинство судей-роялистов приводило
доводы в
пользу объединенного фронта. Колеблющихся не было даже в Grande
Chambre (Большой палате), которая до этого демонстрировала
свое отвращение к оппозиции к трону. Подчеркивая грубую ошибку
правительства,
Моле теперь сказал представителю Мазарини, что те, кто клеветал на
Парламент
должны быть наказаны. 'Беспримерное притеснение' - так он описал
ситуацию
госсекретарю Бриену.
Только Grand Conseil (Большой
совет)
поддерживал Анну, но безрезультатно, так как их усилия по переезду из
Парижа в
Мант были блокированы по приказу Парламента: члены совета смогли только
приостановить свою работу в бесполезном жесте лояльности, дожидаясь
королевской
победы.
Еще
до первых лет господства Генри IV, когда гугенотский король боролся,
чтобы получить
свою столицу, к подобным силам призывали городские власти. Тогда
радикальная
сеть и ее представительный орган, Лига и Seize (Шестнадцать), навязали
свою
волю городу.
Прецедент беспокоил тех фрондеров, которые были настроены решить все
юридически, через союз корпораций, представляющих корону. Комитеты
имели дело с
защитой, финансами, пропагандой и коммуникациями. Большинство
финансистов покинуло
город, но Ла Ральер, traitant
(откупщик), пользовавшийся благосклонностью Эмери, был арестован и
заключен в
тюрьму. Престижа Парламента оказалось достаточно, чтобы брать ссуды и
собирать
налоги: министры насмешливо заметили, что президент Новьон мог теперь
пожертвовать 200 000 ливров. Королевские фонды были конфискованы, Гонди
собирал
серебро из городских церквей. Он также набрал свой собственный полк,
названный
Коринфским.
'Продай свой крест за рогатку' - так пелось в популярной песне.
Городской
истеблишмент, коммерсантов и милицию принуждали к сотрудничеству.
Голосом толпы
управляли агенты Гонди. Моле неустанно работал, чтобы координировать и
вдохновлять военные усилия.
К
фракции Конти присоединились важные новички. Самыми первыми был Буйон,
подагрический ветеран восстаний и его младший брат, Тюрен. Последний
поддержал
своего брата и свои требования на Седан, но искренне признавался в
причинах
неодобрения осады Парижа. Хотя Мазарини обеспечил быстрой оплатой
повиновение
войск армии Тюрена на Рейне его немецкому заместителю, генералу Эрлаху
[отнюдь не последнюю роль здесь сыграло посредничество банкира
Баретлеми
Эрварта, который и добывал деньги на оплату армии, и, одновременно, вел
переговоры с Эрлахом, и здесь протестантизм Эрварта сыграл ключевую
роль,
помогая убедить Эрлаха остаться лояльным], отступничество такого
опытного
генерала было серьезным делом и личным ударом по Мазарини, который
помогал
продвигать карьеру Тюрена и теперь вынужден был сказать, что он 'больше
не
может рассчитывать на его дружбу'. Маршал де ла Мот-Уданкур
был еще одним из тех, кто примкнул к мятежникам. Семья Гизов и давняя
традиция
аристократического неповиновения были представлены в лице Эльбёфа.
Принимая во внимание их шпаги и слуг, можно не сомневаться в храбрости
этих
мужчин. Но занять второе место, действовать сообща, не говоря уже о
создании
альтернативного правительства - на это от них можно было даже и не
рассчитывать.
С самого начала аристократической Фронды отсутствовало разумное
коллективное
руководство: следовательно, в большом почете было личное лидерство.
Гонди
манипулировал Парламентом, привлекая толпу к демонстрации гнева по
поводу
задержки выбора главнокомандующего, распределяя деньги и даже, для
воздействия
на чувства, выставляя напоказ перед судьями герцогиню Лонгвиль и
Буйона. Он
достиг своей цели и назначение главнокомандующего получил Конти. Сын
Бруселя
был объявлен губернатором Парижа.
Конти,
явно неадекватный для роли, которая вовлекала его в операции против
собственного выдающегося брата, был дополнительной компенсацией
коадъютора.
Гонди прежде всего интересовался политическим контролем. Бофор был
сговорчив, ожидая,
что в глазах людей именно он будет истинным лидером. Эльбёф, который
хвастался,
что он будет управлять Фрондой 'лучше, чем Майен, сделавший Лигу',
нянчил свое
недовольство с самого начала. Ему дали приказ о символической атаке на
Бастилию: королевский комендант сдался сразу, таким образом, в деле
оказалось
немного чести.
Сообщения
о трениях внутри лидеров фрондеров, возможно, поддерживали стойкость
Мазарини
перед лицом угрожающих признаков инфекции, распространяющейся в
провинции.
Циркулярные письма Парламента к своим провинциальным аналогам держали
местных
судей в курсе причин и хода этой ссоры. Когда Лонгвиль последовал за
уговорами
своей жены и перешел на сторону фрондеров, нормандские судьи
последовали за
примером своего губернатора. Когда граф д'Алэ,
губернатор Прованса и мазаринист, совершенно неудачно выбрал время для
того
чтобы реанимировать планы по созданию новых судебных должностей, то
парламенту
Экс-ан-Прованса не потребовалось никакой письменной поддержки от
парижского
Парламента, чтобы оказать этому собственное сопротивление. К марту
Прованс был
занят своей собственный небольшой фрондой, в которой губернатор вместе
с
некоторыми дворянами противостоял жителям Экс-ан-Прованса,
поддерживавших в
основном свой парламент.
Резкий
рост цен на муку на парижских рынках показывает, как болезненно осада
города задела
его жителей.
Однако решительные приверженцы в мантиях все еще сохраняли свое
самообладание
перед лицом королевских стимулов, угрожающих или соблазняющих; как и
определенный
контроль над своими аристократическими союзниками и лояльностью жителей
Парижа.
Судьи оставались очень щепетильны к соглашениям, которые управляли
отношениями
между сувереном и подданными в течение многих столетий. Они проводили
решительную линию между своей лояльностью Луи XIV, неоднократно уверяя
его в
этом, и повиновением его министрам. Они выдержали поток приказов от
имени короля.
Они уклонились от решения вопроса о своих полномочиях, находя предлоги
не вскрывать
писем, содержание которых им было известно, поскольку копии посылались
также и
в другие корпорации.
Казнь
Карла I 30 января 1649 года позволила судьям продемонстрировать свою
преданность монархии, когда они издали сочувствующее письмо к королеве
Генриетте-Марии (которая осталась в Лувре, когда двор выехал в
Сен-Жермен) и
осудили цареубийц как 'злых мужчин, каждый из которых нарушил [...]
закон и
обмакнул свои смертоносные руки в кровь этого самого справедливого
короля'.
Попытки же предоставить овдовевшей королеве пенсию были менее удачными;
средства не были изысканы или потому что требовались для защиты Парижа,
или же
она сама отказалась их принять. Возможно, она подозревала их в
лицемерии.
'Предупредите королеву,' сказала она Мотвиль, 'что Карл умер, потому
что не
хотел принять правду.' Ничего больше не удерживало Парламент от атаки
на
Мазарини. Торжественная декларация, выпущенная в январе 1649 года,
обвиняла его
в узурпации и злоупотреблениях королевской властью. Его официально
судили за
преступления против государства, признали виновным, осудили как
'нарушителя
общественного спокойствия и врага короля и государства' и приговорили к
изгнанию из королевских советов и королевства.
'Этот
иностранный мерзавец, мошенник, комедиант, прославленный вор и подлый
итальянец
заслуживает только того, чтобы быть повешенным': таким был Мазарини в
представлении обычно уравновешенного Ги Патена.
Эта ненависть к министру, в значительной степени иррациональная, но
основанная
на выдуманной степени его влияния на Анну, скрепила коалицию Парламента
и аристократов.
Чтобы удержать дворян в одной упряжке со своими делами, Парламент
потребовал от
них принести присягу защищать и слушаться его; осторожные судьи
передали
документ первому президенту; не будучи внесенным в регистр суда, он не
связывал
Парламент с делами дворян. Конечно, на последних лежала обязанность
принимать
военные решения. Они имели своих клиентов среди судей. Герцоги-пэры
также
обладали правом присутствовать на пленарных заседаниях. Но они были
вовлечены в
это до определенной степени, будучи не братьями по общему делу, а
скорее
удобными союзниками.
Цели
известных дворян не допускают их однозначного трактования. Однако в
ходе их
мыслей в изобилии присутствуют сведения о предыдущих восстаниях, когда
они
перечисляют ущерб, нанесенный их собственности и пренебрежению к их
статусу; и
когда должности губернаторов, места в совете и пенсии в большом
количестве
значатся среди их требований. По крайней мере, один из них, герцог де
Брисак,
открыто заявлял о личных интересах: он был готов вступить в любую
партию,
которая бы предложила ему максимальную выгоду. Но честь иногда вступала
в
конфликт с потребностями: так Ла Булэ
не поддался на красноречивые убеждения Мазарини и последовал за своим
патроном
Лонгвилем. В отличие от парламентариев, дворяне не избегали перспектив
анархии.
Адвокаты, которые поддерживали права короны против иностранной власти,
особенно
от посягательств со стороны римского папы, возможно, уважали местные
права не в
меньшей степени, чем их коллеги-парламентарии. Однако они были
королевскими
чиновниками, и правосудие, которое они отправляли, также было
королевским. Поэтому
идеологически они остались в положении централистов.
Противоположен
этому был случай с аристократами, чье положение происходило из еще
остававшейся
силы семейных феодальных владений и их соответствующего местного
влияния. Их
права и притязания предшествовали таковым у абсолютного государства.
Следовательно, это было гораздо больше, чем просто различия в манере
или линии
поведения. Это была глубокая разница в самом mentalité
(мышлении). Это время еще должно было настать, когда эти
два рода дворян, шпаги и мантии, до такой степени установили
взаимосвязь, что
смогли объединиться в единственную высшую касту, или плутократию.
Но на данном этапе они были различными классами французов, с различными
представлениями
о преданности. Это был один из аспектов 'общества правил', в котором
социальные
различия были более строго определены, чем это было, например, за
Ла-Маншем, и
это только один из других таких же моментов, фундаментально различающих
Фронду
и Великую революцию. Впрочем, именно эти моменты в состоянии помочь
объяснить
тактику аристократов, которые с самого начала отделили себя от
большинства
судей и, таким образом, предоставили роялистам их самый сильный
аргумент.
Конти
искал способ прорвать стальное кольцо, которым его брат окружил город.
Ему
казалось недостаточной обязанность защищать конвои с продовольствием;
хотя это
тоже было достаточной трудной задачей. Его войска были весьма
посредственными.
Кавалерия в значительной степени была набрана из городских извозчиков:
их
командира ла Булэ очень скоро прозвали 'Господин проезжих дорог'. Полк
коадьютора очень сильно пострадал 28 января. Один из эскадронов под
руководством Рено де Севинье
был разбит превосходящими силами Конде, а остальные бежали с поля боя.
'Первое
послание к коринфянам' – так насмехались противники Гонди.
Фронда открыла сезон
остроумия.
В
феврале Конти попросил эрцгерцога Леопольда
вторгнуться во Францию из Фландрии. Письмо, несомненно, составленное
его
помощниками [Конти], но подписанное самим Леопольдом, послали в
Парламент: в
нем утверждалось, что Мазарини предлагал Леопольду мир с Испанией за
его помощь
в уничтожении фрондеров; эрцгерцог же добивался только мира. Поэтому
Парламенту,
этому 'естественному наставнику' королей и исключительной законной
власти
предлагалось действовать как посреднику: в действительности же это была
очень
ловкая ловушка, иными же словами - измена. Привычка размышлять,
приобретенная
за столетия, сослужила судьям хорошую службу. Переговоры с иностранной
державой
всегда были прерогативой монарха: Моле отправил письмо в Сен-Жермен. В
том же
самом духе, все еще оставаясь верными своим высоким юридическим
принципам и
отказываясь выпускать постановления, не относящиеся к их власти,
парламентарии
поблагодарили trésoriers
(казначеев)
и судей présidial
(гражданского и
уголовного суда) Пуату за их предложение о помощи и отказались от нее.
Парламент,
возможно, оказался близорук, когда провалил эту попытку заложить основу
для
общих действий с парламентами провинций. Критик мог бы увидеть в этом
больше
беспокойства о традиционных преимуществах, чем желания заставить
правительство
принять свои условия, но баланс между конституционной точностью и
эффективным
сопротивлением было невероятно трудно сохранять. Приблизительно именно
это и
происходило в осажденном городе, где городское правительство получило
не только
права, но также и обязанности. Prévôt
des
marchands (городским головой) в 1648 году Анной был назначен
Ле Ферон,
член Парламента: он убедил échevins
(эшевенов - муниципальных советников) в необходимости осторожного
роялизма, затрудняя
защитные меры, когда мог. Торговцы из-за осады теряли доходы; échevins (эшевены) были их
представителями, но на деле - только некоторых из наиболее богатых
граждан. Впрочем,
в любом случае, шесть главных гильдий
оставались преданы Парламенту. Из буржуа были сформированы специальные
подразделения сил самообороны для помощи в защите города.
Тот
факт, что некоторое количество регентских arrêts
(постановлений) было определенно направлено на интересы богатых
граждан,
например налог на их земельные владения, позволяет предполагать, что
министры
допускали, что большинство из них окажется на стороне Парламента, или,
по
крайней мере, что будут серьезно обеспокоены из-за своих интересов.
Парламент,
возможно, мог позволить толпе атаковать Hôtel
de Ville (Ратушу), поскольку та считала ее членов
закоренелыми
мазаринистами. Но вместо этого Моле, настоящий государственный деятель
парламентской Фронды, сдержал инициативу Парламента и помог успокоить
беспокойных
граждан; 'Парламент', заявил он, 'не должен таким образом удовлетворять
склонности людей'. Таким образом, Ратуша была включена, под давлением,
в
оборонную систему города, и удалось избежать двух опасностей: опускания
моральных принципов в толпе, которое могло бы обеспечить предлог для
роялистской атаки, и разрушения обороны города, если бы Ратуше
разрешили бы и
дальше саботировать ее.
Стратегия
Конде состояла в том, чтобы занять маленькие города, рынки которых
могли бы
снабжать Париж продовольствием и поддерживать между ними
патрулирование. Жуткие
угрозы были доведены до сведения крестьян, которые могли поставлять
продовольствие в город. Королевские декреты стремились подорвать власть
Парламента, дав право малым уголовным судам принять на себя его
апелляционную
юрисдикцию. Кроме того, муниципалитеты и налоговые чиновники получили
приказы
направлять налоговые доходы в Сен-Жермен. Однако, все равно, в столицу
сочилась
струйка поставок и денег от сочувствующих провинций или чиновников,
готовых
рисковать даже под угрозой репрессий. Крестьянское же хозяйство было
достаточно
непрочным и без такого подрыва. Сообщения матушки Анжелики Арно
передают в достаточной мере, что в эту мрачную зиму пострадали не
только жители
Парижа.
Попыткам
же согласовать общую фрондерскую стратегию мешало опрометчиво
конкурентное
поведение командующих. Бофор был неосторожен и тщеславен, но он в итоге
заработал
славу, которой жаждал. Он успешно прикрывал проход продовольственной
колонны от
Этампа. Когда же он вернулся, после слухов о том, что был захвачен в
плен, его
приветствовала восторженная толпа и feu
de joie (иллюминация), когда в каждом окне стояла зажженная
свеча. Однако
дальнейший его успех, когда он захватил Вийежье и привел другой
караван, перевесило
одно главное сражение первой войны. 8 февраля Конде заманил гарнизон
Шартона в
ловушку, и его солдаты, состоящие в основном из немецких наемников,
убили
практически всех и побросали их тела в Сену. Эльбеф был подвергнут
критике за
то, что не смог оказать помощи этому гарнизону. Ла Рошфуко храбро
сражался в
Бри-ле-Робер. Париж не умирал с голода, но Конде также
удерживал свои позиции; торговцы сидели
без торговли, а ремесленники - без работы.
Во
время всех этих действий Мазарини продолжал поддерживать контакты со
многими
умеренными парламентариями.
Анна дала знать о том, что ее главной заботой была власть ее сына; это
гарантировало, что 'она предпочтет мягкость насилию'. Если это была
правда, то
теперь она находилась в более примирительном настроении, чем в январе.
Моле
поддерживал тайные встречи с министрами. Он настоял, чтобы на время
переговоров
была снята продовольственная блокада, поскольку это улучшило бы его
шансы по
завоеванию поддержки парижан для переговоров. Официальные встречи имели
место в
Рюэле, около Сен-Жермена. 12 марта, спустя всего неделю, было подписано
уже
предварительное соглашение. Новости о вторжении эрцгерцога в северную
Францию
придали некоторое ускорение процессу. Внесение изменений сопровождалось
регистрацией Парламента в апреле, а затем очень быстро - другими
парижскими
судами и парламентами Экс-ан-Прованса и Руана.
Серьезный
дефицит в политическом арсенале Мазарини к настоящему времени был
очевиден.
Однако на этих переговорах он использовал испытанное и знакомое оружие
с
привычным мастерством. Он был более чем достойным соперником Моле,
который мог
утверждать, что служит монархии лучше оставаясь и сдерживая Парламент,
чем
присоединившись ко двору. Он мог спорить с позиции силы как
представитель Парламента,
который не был побежден. Он был слишком уверен в себе, чтобы
проигнорировать в
последний момент распоряжение из Парижа не вести переговоры.
Благородные
фрондеры убеждали Парламент, что Мазарини вел переговоры только для
того, чтобы
пустить пыль в глаза. Моле мог быть гибким, потому что его основная
позиция
была позицией традиционного роялизма: Парламент должен быть опекуном
закона, но
не контролером короля: его принятие на себя власти было временным, не
предполагающим за собой постоянного права. Мазарини же неизменно был
готов
пожертвовать формами и видимостью, чтобы достигнуть своих целей. Среди
людей,
скованными предписаниями социального положения и этикета это могло
давать ему
ценную гибкость в действиях. Однако на этих переговорах ни у кого из
участников
не были полностью развязаны руки. Анна теперь много чем была обязана
Моле, но
имела тенденцию негодовать на него за высокую беспристрастную позицию.
Моле и сопровождающие его делегаты
отказались проводить переговоры непосредственно с Мазарини; таким
образом, две
делегации расположились в отдельных комнатах и совещались через
посыльных.
Мазарини приходилось всегда считаться с характером Анны и ее желанием
самоутверждаться. Делегация же Моле включала, помимо представителей
других
судом и городского муниципалитета, радикальных парламентариев. Дворяне
внешне
остались равнодушны к таким светским делам. Главной целью короны было
аннулировать arrêt (постановление)
Парламента от июля 1648 года, который
наложил запрет налогообложения без его одобрения, вместе с поправками,
добавленными к октябрьской королевской декларации Счетной палатой и
Высшим
податным судом, гарантировавшими зарплаты судей в этих судах и
защищавших
налоговых чиновников от возрождения института интендантов. Тем временем
Ла
Мейерэ попросил разрешения привлечь ссуду в двенадцать миллионов ливров
под
будущую талью, и под десять процентов годовых, а также разрешение
оплатить их
через comptants (наличные). Мазарини также поставил
условие ограничить
количество собраний, которые могли быть созваны Парламентом и только
при
выполнении определенных условий, среди которых главным было одобрение
собраний Grande
Chambre (Большой палатой), а также исключить из них участие
радикальных
элементов от Enquêtes и Requétes
(следственной и кассационной
палат).
В
итоге оппозиции пришлось уступить очень немного; декрет об изгнании был
аннулирован; они согласились с краткосрочным займом на талью, сбором
которой
должны были, однако, управлять trésoriers
(казначеи), а не traitants
(откупщики); и выплата процентов дозволялась только через Счетную
палату, а не
посредством тайны comptants
(платежей
наличными). Общая амнистия королевы-регентши должна была включить в
себя и тех
радикалов, которых она хотела бы наказать. Парламент мог продолжать
оставаться
в Париже. Большинство реформ 1648 года были бы защищены. В случае любых
нарушений
Парламент имел право созвать пленарное заседание: с 1650 такие сессии
получили
право проводиться независимо от обстоятельств. Была получена помощь
также и для
Экс-ан-Прованса и Руана, где были отменены новые судебные должности.
Таким
образом, Моле отстоял свою стратегию. Честь Парламента была сохранена,
концепция его места в структуре королевской власти подтверждено, а
Мазарини
оставался при исполнении служебных обязанностей. Он выиграл еще один
раунд в
сражении за свою политическую жизнь. Но не было никакой надежности; и
при этом
не было никакого вопроса о цене, которую платила за это корона. Если бы
регентша избрала именно это причиной своих переговоров, возможно, были
бы
выиграны лучшие условия. Как это уже было до этого, Парламент одержал
победу по
большинству важных пунктов. Королеве пришлось отказаться от всех
карательных
санкций, объявленных во время осады.
Однако
победа Парламента не была такой же очевидной с точки зрения их
аристократических
союзников, интересам которых она никак не способствовала; их цели были
слишком
индивидуальными, чтобы быть приведенными к единой мере или даже
заявлению прав.
Тем не менее, благородные фрондеры надеялись приобрести солидные
бенефиции
благодаря своим военным успехам: теперь же их оставили в неопределенном
положении,
и возможность независимой фронды дворян не стоило исключать. Она могла
бы
привлечь на свою сторону общественную поддержку и даже оказаться
направленной
против Парламента. В кругу Бофора, наслаждавшегося своей популярностью
в Les Halles (Центральном
рынке Парижа),
циркулировали разговоры о мобилизации неимущего Парижа против лидеров
судейских, которые, передаваясь со слухами, раскрыли и сам замысел.
Линия Гонди
была более осторожной: сначала он играл на союз с Испанией, затем - не
менее
секретно работал на мир; теперь же он обсуждал вариант, при котором
Рюэйльское
соглашение должно быть подписано, но неофициально саботировано.
Разделения
между лидерами, как обычно, препятствовали выработке общей политики.
Мазарини
был так хорошо информирован об этом, что обычно мог смотреть на шаг
вперед.
Например, теперь он обеспечил, чтобы Лонгвиль задержался в Нормандии.
Тюрен,
чтобы переждать события, в одиночку отбыл в испанскую Фландрию, где
обнаружил
недружелюбный прием от эрцгерцога Леопольда. Последний начал охладевать
к
фрондерам: в начале марта он выдвинулся к границе с преднамеренной
медлительностью. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы поторопить
Мазарини с
подписанием предварительного соглашения.
Дворяне
в неудачное время подчеркнули различия между ними и Парламентом,
пробуждая
толпу продемонстрировать это за пределами Palais
de Justice (Дворца Правосудия). Крики 'Pas de
Paix!' (Долой мир!) и 'Pas de
Mazarin!' (Долой
Мазарини!), даже, и возможно, спонтанное 'République!'
(Республика!), атаковали судей и развернули спор о подписываемом
соглашении. Но
Парламент никогда так явно не сплачивался, как тогда, когда его
собственной
безопасности и достоинству угрожала опасность. Его лидеры могли также
использовать это дело, чтобы произвести на Мазарини впечатление своей
ценности
как потенциальных союзников. Леопольд же оказался настолько сердит
'непрерывными изменениями и небольшим результатом от обещаний', что
заявил, что
'не желает больше тратить впустую время' и отступил к Фландрии. Дворяне
поняли,
что им придется позаботиться о себе самим. Те, кого Мазарини посчитал
наиболее
необходимым привлечь на свою сторону, запросили высокую цену: для Конти
- вход
в совет, для Лонгвиля - 800 000 ливров и право передать свои должности
наследникам. Это было время расплаты. Между тем, вместе с военной
мощью, так
деликатно сбалансированной, Нормандия стоила короне маленького
состояния.
Большинству дворян повезло гораздо меньше. Когда Парламент
довольствовался
регистрацией относительно небольшого числа деклараций, касающихся их,
они
послали свою собственную делегацию, чтобы заключить свою сделку с
Мазарини; но тот
уже отказался уступать что-либо далее. Моле тогда с презрением отклонил
просьбу
Конти приостановить соглашение, пока дворяне не будут удовлетворены.
1
апреля 1649 было зарегистрировано Рюэльское соглашение. В дураках в
этот
символичный день, казалось, остались дворяне: всем, кроме нескольких
преданных
фрондеров или их личных клиентов, они виделись безнадежными
раскольниками.
Однако дворянам казалось, что судей интересовали только их собственные
должности и жалования. Парламентская Фронда была окончена. Уже очень
скоро
должна была начаться фронда принцев.
|