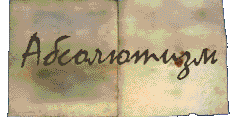
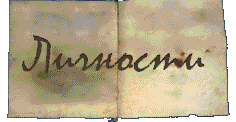
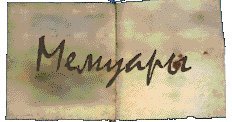
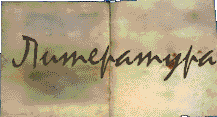

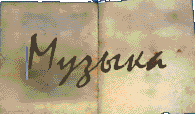
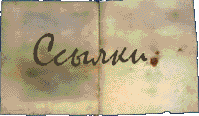
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ III.
ФРОНДА
.
«Дьявол
желает на свет и готовится к этому»
Р.Л. Стивенсон
.
16. Декларация
Сен-Жермен
.
Конде,
ненадолго прибыв с фронта в столицу, был одним из тех аристократов, кто
наблюдал эту толпу. Он оставался в столице только для кратких
консультаций с
правительством. Вернувшись во Фландрию, он оказался не в состоянии
помешать
эрцгерцогу Леопольду снять осаду с фламандской крепости Ланс. Получив
из
Мадрида приказ искать сражения, Леопольд 20 августа получил
сокрушительное
поражение от французских войск. С момента заключения соглашения в
Мюнстере [с
Голландией] испанцы были освобождены от бремени войны на двух фронтах
[они
теперь находились в состоянии войны только с Францией, а Франция все
еще
воевала и с Империей]. Французы сражались неистово, чтобы устоять, а
испанцы -
чтобы вернуть себе свою репутацию непобедимых. Генерал Конде был
величественен:
не удивительно, что принц с лицом ястреба видел в себе опору монархии,
заслуживающую отдельного места у трона. Помимо 4 000 испанцев, убитых в
полях,
он захватил 6 000 пленных и всю испанскую артиллерию.
Как
только подводы, груженые семьюдесятью тремя захваченными Конде
вражескими
штандартами вернулись домой, министры сделали выводы . Мазарини увидел
в этой
победе освобожденный путь для заключительного раунда переговоров с
императором
и возможность заставить покинуть его коалицию с Испанией. Именно от
Испании
могла быть выиграна самая ценная территориальная прибыль. Простодушно
демонстрируя
настроения двора, молодой Луи размышлял, 'до чего же жаль les messieurs de Parlement (господ из
Парламента) при таких
новостях'. С продуманной амбивалентностью Гонди прибыл в Нотр-Дам,
чтобы
произнести победную проповедь о 'государственной воле Св. Луи'. После
хвалебна
суровости Луи IX по отношению к ереси и рекомендации его примера
молодому
королю, он раскритиковал правительство за его попытку обложить налогами
церковь. Коадъютор, самый влиятельный священнослужитель Парижа, думал о
скорее
том, чтобы еще более усилить влияние своей партии, чем о том, чтобы
заслужить
расположение двора. Мазарини поблагодарил его. Он, по всей вероятности,
никогда
не начинал ссору из-за отсутствия любезного слова; однако Анна решила,
что
Гонди слишком дерзок. Ее охватило непродолжительное убеждение, что
настало
время для решающего удара.
Утром
26 августа парижские нотабли, сопровождаемые мушкетерами, прошли
стройными
рядами к Нотр-Даму, чтобы посетить официальную благодарственную мессу
по поводу
победы. Древний собор, украшенный внутри множеством свечей, умножавших
свет,
проникавший через его мутные темно-красные и голубые средневековые
стекла, и
отбрасывавших свое пламя на множество захваченных флагов, вел свою
собственную
проповедь о величии королей и о фортуне сражений. Те, кто знал или
подозревал о
готовившихся действиях, возможно, были слишком напряжены, чтобы оценить
торжественные слова службы и красоту песнопений. Королева-мать
приказала
оставить открытой западную дверь собора; действуя по плану,
составленному на
совете, она отдала приказание Коменжу, командиру gardes
de la reine (гвардейцев королевы). Облаченные в алые мантии,
судьи в беспорядке разбегались, поскольку гвардейцы попытались
произвести среди
них аресты. Войска оказались в состоянии захватить только президента
Бланмениля: Брусель же в то утро благоразумно остался дома, возможно
из-за
принятого слабительного. Коменж нашел 'спасителя людей' за обедом со
своей
семьей. К тому времени, когда ему удалось затолкнуть Бруселя в карету,
рассерженная толпа уже заполнила улицу. Карета Коменжа оказалась
опрокинута, и
ему повезло, что он нашел помощь и другую карету, которая смогла
вывезти его с
заключенным на дорогу в Сен-Жермен.
К
несчастью, это был рыночный день, фактор, который, возможно, был упущен
при
планировании столь удачного хода.
В результате очень скоро сформировалась толпа, поддержавшая лодочников
на
набережных, швейцаров и ремесленников; простонародье, которое быстро
сплотилось
вокруг своего героя. Как всегда, в таких толпах было много женщин.
Можно было
заметить даже детей, вооруженных poignards
(кинжалами). Камни и дубинки были самым распространенным оружием, хотя
некоторые
были вооружены мушкетами. Последующие часы были отмечены шумом,
слухами,
паникой и яростью. Как дым застилает поле сражения, так и
противоречивые
сообщения делают невозможным восстановить в точности, что же тогда
случилось.
Факты выглядят совершенно по-разному с дворцовой точки зрения мадам де
Мотвиль,
с точки зрения парламентариев Моле или Талона, а также заговорщика
Гонди.
Событий, которым можно определить относительно точное время и место, в
действительности очень немного, но все они важны. В любом случае
беспорядок не
умаляет драму или значение этого восстания. Это было устрашающее время
для
королевской семьи и министров; но не в меньшей степени и для les bons bourgeois (зажиточных буржуа),
которые увидели, насколько уязвимы они перед людьми с оружием в руках.
Gardes
françaises
(французская гвардия)
была сконцентрирована за пределами дворца. Для охраны моста Пон-Нёф и
набережной Лувра было отправлено несколько отрядов. Тем временем, через
улицы
перетягивали цепи, особенно усердствовали в этом на острове Ситэ.
Обычно так
делали владельцы магазинов, заинтересованные в том, чтобы защитить себя
от
грабежей, но это также препятствовало передвижению войск по городу. Ла
Мейерэ
совершил две вылазки из дворца: в него была брошена граната и открыта
стрельба.
Гонди утверждал, что Ла Мейерэ был сброшен с лошади и что он лично спас
его,
удержав разъяренную толпу. Однако уже в начале следующего дня маршал
предпринял
активные действия, сам проведя операцию по спасению канцлера. Сегье
попытался в
то утро отправиться в Парламент с распоряжениями королевы, запрещающими
им заседать,
но был окружен толпой ремесленников и вынужден был вместе со своей
дочерью
найти убежище отеле де Люинь.
В конечном итоге, было насчитано более тысячи баррикад: цепи,
булыжники, телеги
и бочки превратили город в одно большое место протеста и вызова. Моле
возглавил
процессию парламентариев, одетых в парадные мантии, которая,
сопровождаемая
криками толпы, двинулась в Пале-Рояль просить выпустить заключенных.
Однако
когда президент в первый раз вышел из дворца и без желанной гарантии,
то стал в
глазах толпы плохим. Когда Моле попробовал еще раз обратиться к
королеве, то он
мог уже сослаться на свой собственный опыт: толпа могла его убить,
напасть на
двор или громить город.
Мазарини
провел бессонную ночь, будучи полностью одетым и готовым к бегству. Он
отлично
понимал, что являлся главной целью повстанцев. На случай непредвиденных
обстоятельств были составлены планы по эвакуации двора под вооруженным
эскортом: в течение нескольких ночей лошадей держали полностью готовыми
к
отъезду. Королева же предпочитала оставаться на месте, доверяя защите
своей gardes (гвардии). Разве не
она до этого заявила
Гонди, что скорее задушит Бруселя своими собственными руками, чем
освободит
его? Она была смелой женщиной, но боялась за своего сына. В итоге Моле
добился
уступок: были подписаны lettres de cachet,
на основании которых Брусель и Бланмениль получили свободу. На
следующий день,
28 августа, беспорядки продолжились. Брусель вернулся и был
торжественно
принят, но поползли слухи о том, что двор желает удалить короля из
города и
развязать карательную операцию против Парижа. Очевидно, что этим
занимались те,
кто подобными вещами зарабатывал себе на жизнь: двор в распространении
слухов
подозревал Гонди. Возможно, и на самом деле позади этого всего теперь
стоял
именно он, оскорбленный и разочарованный. Позднее коадъютор утверждал,
что
честь освобождения Бруселя принадлежит именно ему. Но на деле это стало
возможным только благодаря толпе, которая с успехом бросила вызов
своему
суверену. Здесь было о чем подумать, и не только в Пале-Рояле, но и во
Дворце
Правосудия.
Можно,
конечно, доказывать, что задуманный план был просто плохо приведен в
исполнение; ясно, что фактор внезапной атаки должен был вызвать эффект
шока: на
ум сразу приходит неумелая попытка Карла I арестовать пять членов
своего
парламента.
Тем не менее, еще остаются трудные вопросы. Почему министры считали,
что
Парламент согласится с арестом некоторых из своих членов? Почему был
выбран
именно Брусель? Человек из народа, который гордился своей простой
одеждой и
такими же простыми манерами, представитель радикалов, которые в
основной своей
части были много моложе его, он отвечал, вместе с Моле, за относительно
сдержанное поведение Парламента. Если правительство таким образом
намеревалось
бросить Парламенту открытый вызов, и этим самым оправдать более
радикальные
меры, то разве не следовало ему в таком случае подождать до тех пор,
пока в его
распоряжении не появилось бы больше войск?
В
истории Парижа еще будет период, когда в июле 1789, который стал очень
важным
месяцем, ряд происшествий, проистекая из проблем экономики,
соединившись с
определенными политическими обидами, способствовал кризису власти:
пробудив
множество страстей, вовлекая интересы многих, подкрепленные большими
личными
амбициями и поднимая проблемы, которые проявились все сообща и
приобрели
символический характер. Героические и трагические аспекты Фронды
смешались
между собой, как в комических эпизодах, уменьшая напряженность в игре с
элементами обмана, мелкого, и даже время от времени абсурдного. Только
читателю
оценивать, до какой степени достойно или скверно проявил себя в этот
момент
истории Мазарини. Неизвестно, одобрял ли он ход с Нотр-Дамом или
склонял Анну к
объективно лучшему решению. Тем не менее, временами он все-таки
контролировал
ситуацию. При случае он, как можно это заметить, платил за нежную
поддержку
Анны согласием с ее пожеланиями. Возможно, что по причине августовских
событий
это было не трудно. Парижане же конечно, обвиняли во всем его. Их
интуиция,
возможно, не обманывала их, ибо не выходила ни за пределы его
характера, ни исключительности
в его карьере, построенной на удачно оседланных случайностях. Дело
Бруселя было
отпором лично ему. Нервно истощенный, Мазарини покрывался потом в
присутствии
судей. Но не было никаких сомнений ни в его физическом мужестве, ни в
его
гибкости. У него был наготове свой обычный довод: уступки, на которые
пошли
теперь, скоро можно будет отменить. А кроме того, у него существовали и
другие
значительные дела, которые необходимо было завершить.
Через
два месяца после событий в августе его посланники завершили переговоры
по
Вестфальскому миру. В этом им хорошую службу сослужили его четкие
инструкции.
Некоторые тогда признавали, что в иностранных делах он служил своей
стране
хорошо. Однако немногие тогда отважились бы защищать его дела во
внутренней
политике, или поддерживали его положение как первого министра, или даже
просто
ожидали бы, что он выживет. Он достиг положения, обычно фатального в
политической жизни, когда даже близкие сторонники лишались мужества при
виде
объема враждебности и старались сделать все для того, чтобы спасти хотя
бы
самих себя. Однако они служили королю, следовательно -
королеве-регентше, а от
ее расположения Мазарини зависел абсолютно полностью.
Одной
существенной особенностью августовских дней было то, что Парламент, как
общественная корпорация, ни спровоцировал, ни возглавил народные
волнения.
Также, кажется, никто из важных дворян не был вовлечен ни в причины, ни
в
эксплуатацию беспорядка. Конде, воодушевленный победой, презиравший
Парламент,
который, по его мнению, делал все, чтобы подорвать военные успехи, был
лоялен
короне. Он беседовал о политической ситуации с Мазарини, но почел за
благоразумие
скрыть его визиты в тайне. Анна же до определенной степени доверяла
герцогу
Орлеанскому: он сильно желал снискать расположение Парламента и это
добавило
ему ценности как посреднику. Похожие заметные личности по отдельности
заинтересованно концентрировались вокруг Поля де Гонди.
На деле он являлся главой церкви в Париже, со всем тем, что это могло
означать
в городе, где церковь долго обеспечивала, через различных людей или
различные
группы (dévôt (благочестивых), галликанцев и
янсенистов) примерную модель для
подражания всей страны в целом. Если его роль и остается неоднозначной,
то не
из-за различных умалчиваний доли его участия. Этот вопиющий
священнослужитель
жил по таким двойственным стандартам, что трудно понять, какие же
принципы
направляли линию его поведения. То, что он позднее скрыл свои следы в
мемуарах,
которые стали художественным личным завещанием и, в меньшей степени,
образной
реконструкцией событий, создает определенные трудности. В отношении
некоторых
хорошо задокументированных действий и слов там достаточно свидетельств.
В
отношении всего остального можно сказать только то, что это, возможно,
могло
иметь место.
Очевидно,
Гонди желал быть генералом-конспиратором. Он проявил, начиная с юности,
недюжинный интерес к мастерству подрывной деятельности, которая лежала
далеко в
стороне от его академической учебы. К началу регентства он был уже
бывалым
заговорщиком: он ужинал с убийцами. Он оказался в достаточной степени
удачлив
для того, чтобы не попасть в Бастилию. Он учился быть осторожным и
приобрел,
хоть и не в дворцовых кругах, определенный ореол респектабельности.
Очарованный
политической игрой, он вложил всю свою энергию, обаяние и определенное
своеобразие в проблемы, которые теперь стояли перед ним как перед
самозваным chef de parti
(руководителем партии). Не
это само по себе препятствовало возможности его становления первым
министром на
месте Мазарини, но именно это вовлекало его в конфронтацию с Анной,
которая, в
любой ситуации за исключением переворота, должна была стать фатальной
для его
шансов. Поэтому естественно, что Анна и Мазарини подозревали его в том,
что он
планировал такой переворот. Он уже продемонстрировал исключительное
умение в создании
своих интересов в Париже, где он участвовал в формировании
нерегулярного
народного ополчения, в котором благородные авантюристы, раздраженные
чиновники
и некоторые священники активиста были офицерами, в то время как рядовые
состояли из торговцев, ремесленников и рабочих, которые нуждались в
небольшом
поощрении или стимуле, чтобы сформировать толпу. Он состоял в контакте
с
ведущими парламентскими радикалами: Лонгуэем,
Виолем
и Бланменилем. И, хотя трудно найти отличия между его друзьями,
знакомыми и
агентами, которых он культивировал в своих регулярных набегах на улицы,
совершенно очевидно, что он представлял из себя нечто большее, чем
просто банального
главаря бандитов. В известном смысле, применимом к данным
обстоятельствам, он
был политическим деятелем. Его система осведомителей была обширна, в
нее
входили такие опытные заговорщики как Монтрезор
и Лег.
Он имел entrée (доступ)
в некоторые аристократические
дома. Церковь же предоставляла ему послушных последователей и
бесчисленных
помощников среди традиционно воинственного духовенства.
Неорганизованная
природа его сторонников и его собственные недостатки характера делали
из Гонди
человека, более подходящего для агитации, чем для власти. В один момент
все эти
же его особенности были использованы короной, чтобы нейтрализовать и
победить
его. Но на данном этапе он мог быть только объектом глубокого
подозрения.
Возможно забывая, что правительство первым создало возможности для
бунтов,
Мазарини полагал, что Гонди их поощрял, и что его показные
вмешательства и его
благословения к толпе были только его способом довести до сведения, что
он
готов их, в случае чего, возглавить. Безусловно, он выступил вперед с
удивительным проворством, как будто был заранее подготовлен для роли, в
которой
он предложил регентше свои услуги для того, чтобы успокоить и
контролировать
людей
Идеал
коалиции благородных интересов меча и мантии, действующих сообща,
которую он,
конечно, рассчитывал возглавить, является центральной идеей, проходящей
красной
нитью через все неразберихи интриг Гонди. В самом начале некоторые
личности
объединялись в неофициальные группы. У Шавиньи и Шатонёфа существовала
одна
главная причина для сотрудничества с Гонди: они очень хотели вернуть
свои
министерские должности и разыскивали для этого таких союзников в
Парламенте как
Виоль. Иногда людей объединяла личная дружба; оппозиция политике
регентши была
другим связующим звеном. Неприязнь же к Мазарини была общим фактором.
Но без
дисциплины настоящей политической партии, имея общими лишь немногие
цели, эти
союзы, вероятно, были непостоянными и ненадежными. Les
grands (грандам) требовалась военная сила, чтобы быть
действенными; а активистам в Парламенте - еще убедить своих более
осторожных
коллег. В тот момент, когда преобладали такие негативные факторы, Анна
и
Мазарини, возможно, были достаточно благоразумны, чтобы избегать
наносить новые
обиды. Не удивительно, что после беспорядков августовских дней они
могли не увидеть
дела в реальном свете: под градом насмешек и пренебрежения было трудно
быть
терпеливым, не говоря уже о примирении. 13 сентября Анна вместе с
Мазарини и
своей семьей, покинула Париж, сначала разместившись в гостях у
племянницы
Ришелье в Рюэле, а позднее перебравшись в Сен-Жермен. Из château
(замка), без очевидных на то причин, кроме тех, что
свидетельствовали о связях с видными фрондерами, Анна распорядилась об
аресте
Шавиньи и Шатонёфа.
Кто
был следующий на очереди? В уме Мазарини созрела мысль осадить Париж,
но он
нуждался в поддержке Конде. По здравым, как военным, так и политическим
причинам, генерал отказался: операция была отсрочена, таким образом
правительству осталось только наблюдать за Парижем. А там Парламент
отклонил
королевский приказ покинуть город и определенно развернул атаку на
Мазарини. Его
обвинили в отправлении деспотического правосудия и военных репрессиях.
Парламент угрожал созвать специальную сессию и вызвать на нее ducs et pairs (гецогов-пэров); а затем
подал ходатайство о arrêt
(постановлении)
1617 года, направленном против иностранных министров. Мазарини
беспокоился: он
вспоминал судьбу Кончини. Как будто проверяя намерения судей, министры
согласились на то, чтобы освободить из заключения Шавиньи и Шатонёфа и
возобновили переговоры. Парламент ответил на это с готовностью и
отправил
делегатов в Сен-Жермен, чтобы заключить соглашение по остающимся
статьям
реформы. Нелепые контрходы двора помогли им сохранить инициативу.
Диапазон
вариантов, к которым могла обратиться регентша, неуклонно сужался.
Последнее
фиаско постепенно поставило финансовую администрацию на грань коллапса.
Увольнение
д'Эмери было популистским ходом, также как и замена его на маршала де
Ла Мейере.
Назначение последнего было целиком и полностью политическим,
предпринятым для
того, чтобы произвести впечатление на Парламент и понравиться Конде, но
не traitants (откупщикам). К
сожалению,
последние были именно теми, кто мог фактически предоставить то, что
требовалось
казне. Они уже были сильно раздражены от словесной порки, полученной
ими от
Парламента и обиженны на правительство за отказ их защитить. В 1647
году они
авансировали 80% расходов государства. Однако в 1648 году они
фактически
забастовали. Это явилось предпосылкой к июльскому решению аннулировать
все
существующие контракты, а затем сократить процентную ставку с
пятнадцати до
шести процентов годовых. Мадам Мотвиль назвала это 'связкой роз,
брошенных
Парламенту'. Мазарини утверждал, что этот ход сохранит казне пятьдесят
миллионов ливров за год. Он сильно преувеличивал. В действительности же
это
было не что иное, как официальное объявление банкротства, а проблемы,
вызвавшие
его, оставались: было необходимо в ближайшей перспективе найти наличные
деньги
для оплаты войск, а также, в конечном счете, восстановить финансовое
доверие по
всей стране в целом. В моменты жизнерадостного настроения, которое
имело
тенденцию следовать у него за периодами сильного беспокойства, Мазарини
мог
создавать впечатление явной самонадеянности: "Его Величество получило
неисчислимые преимущества от разногласий и противоречий среди своих
противников". Он знал, что многие парламентарии были вовлечены в
процесс
предоставления денег, следовательно, он также понимал, что они окажутся
среди
пострадавших от более сурового финансового режима. Негласно некоторые
финансисты, стремящиеся найти приложение своим деньгам, тайно
финансировали
казну; Анна закладывала свои драгоценности, Мазарини предоставил
несколько
больших алмазов, и министры и финансисты начали снова находить общий
язык.
Встречи
в Сен-Жермене тянулись до тех пор, пока королева-регентша не пошла на
достаточные уступки, удовлетворившие делегатов Парламента. 24 октября
королевская декларация, воплощавшая в себе те реформы, на которых
Парламент
оказался в состоянии настоять, была зарегистрирована. В тот же самый
день
дипломатические представители Мазарини подписали соглашения, которые
закончили
Тридцатилетнюю войну. Церковные колокола звонили, неся радость для
опустошенных
немецких государств. Франция теперь находилась в мире с Империей, но
война с
Испанией продолжалась: она вторгалась в восточные и южные провинции
страны и
продолжала это делать. Поэтому от мира, принесшего королю земли и
влияние в
европейском сообществе, Мазарини фактически не получил никаких
внутренних
преимуществ. Comptes des Aides
(Высший податной суд) зарегистрировал
Декларацию от 27 октября только после жестких поправок. Провинциальные
палаты
тоже делали все неохотно, будучи не только сбитыми с толку, но также и
обиженными на продолжение войны с Испанией: 'мирные дивиденды' были
отложены на
неопределенный срок? Случай с Бордо, как это можно увидеть в донесениях
для
Мазарини от губернатора д'Эпернона, наводит на мысль, что тамошние
судьи
использовали ратификацию Декларации как предлог для того, чтобы
поделить
местные налоги, к которым этот документ вовсе не относился.
Декларация
Сен-Жермен была основана на предложениях, выдвинутых Палатой Сен-Луи,
сформулированных в статьях, которые были переданы через Парламент на
рассмотрение королевскому совету. В ней было три главных составляющих:
во-первых, двадцать семь статей, формальных по своему характеру;
во-вторых,
королевские заявления; а в-третьих, arrêts
(постановления) по различными корпорациям. Во всей этой массе
материала, по
сути проявляется программа реформ, заключивших в себе большинство обид,
которые
проистекали из трех десятилетий королевского абсолютизма: вторжения в
права
корпораций, создание дополнительных институтов и финансовое
вымогательство. В
ней проявляется представление об обоснованной альтернативной программе,
этаком
правовом абсолютизме.
И даже если 'программа' - слишком определенный термин для такого
сборника, тем
не менее, совершенно ясно, что пакет в целом выходил за пределы частных
интересов тех лиц, что его составляли.
Но
были в ней и существенные упущения, например, восстановление полеты
считалось
само собой разумеющимся делом [то есть восстановление полеты не было
отражено в
декларации]. Вопросы восстановления жалования чиновникам и отмены
недавно
созданных должностей отражали, прежде всего, текущие проблемы.
Сатисфакция
постепенно входила в моду, поскольку правительство было вынуждено идти
на одну
уступку за другой: например, независимым судьям и trésoriers
(казначеям) пообещали три четверти их жалования, а élus
(выборным) - половину. Было отменено много должностей.
Королеве-регентше
пришлось дать обещание не создавать в течение пяти лет никаких новых
должностей; после этого любые новые должны были подтверждаться (без
применения
насилия), на заседании lit de justice.
Длительная борьба из-за интендантов уже закончилась ранее декларацией,
отменяющей их присутствие везде, кроме шести пограничных мест:
интенданты
остались только в Пикардии, Шампани, Бургундии, Лионе, Провансе и
Лангедоке. Но
даже там, где интенданты были сохранены, они лишились прав контроля за
гражданскими лицами: теперь в их функции, как в 1620-х, входило только
снабжение и надзор за войсками. Парламент настаивал на том, что все
назначения
интендантов должны быть внимательно изучены.
Проблема
ареста и заключения в тюрьму по произволу вновь возникла после атаки на
Шатонёфа и Шавиньи. Слова Сегье в защиту этих прав короны, возможно,
были
написаны еще Ришелье. 'Когда люди могут нарушить спокойствие
государства через
интриги [...] хотя их преступления и не могут быть доказаны, то
формальности
никуда не годятся'. Канцлер объединил прекрасное знание закона со
значительной
готовностью предоставить авторитет своей должности в угоду
политическому
правосудию. Но он получил решительный отпор от Моле, который желал
получить
гарантию на то, что регентша не будет злоупотреблять своим бесспорным
правом. Ей
пришлось уступить отдельным требованиям Парламента: теперь никто из
чиновников
не мог быть лишен должности или свободы с помощью lettre
de cachet (королевского приказа о заточении в тюрьму); и
гарантировать судебное разбирательство в течение двадцати четырех часов
с
момента ареста.
Человеческие
проблемы, экономический смысл и, даже здесь, внимание к интересам
сеньоров,
повлияли на требование о сокращение тальи на четверть, и, также, на
отмену
многих косвенных налогов. Из обломков чересчур изобретательных усилий
д'Эмери
были пересмотрены toisé
(обмерный
налог) и налог на земли, отчужденные от королевского домена. Доходы
ратуши
должны были контролироваться судьями; сама же ратуша, в свою очередь,
должна
была контролировать парижские тарифы. И, конечно же, был открыт огонь
по traitants (откупщикам). Сдача
тальи в
аренду должна была быть отменена; управление ей должно было вернуться к
trésoriers
(казначеям) и élus
(выборным). Новые договора по
другим налогам должны были заключаться на конкурентной основе. Chambre des Comptes (Счетной палате)
вменялось право ревизовать такие сделки. Спекулянты, торговавшие
рентами,
должны были быть оштрафованы. Чтобы расследовать сомнительные деловые
отношения
между государством и его кредиторами, должна была быть созвана chambre de justice
(палата правосудия).
Интересная
статья, требовавшая отмены торговых привилегий в пределах королевства и
запрещения импорта определенных иностранных продуктов, указывает на
широкий
взгляд на потребности экономики. В любом случае, концентрация
Парламента на
финансовых вопросах не должна интерпретироваться как отражение узких
классовых
интересов. Traitants (откупщиков)
требовалось внимательно проверять. Меры, возможно, предусматривали
грубую
дискриминацию, но не были новыми. В действительности они были,
возможно, менее
запятнаны политическими расчетами, чем предыдущие упражнения в
правосудии над
козлом отпущения, установленном правительством, чтобы сфокусировать
ответственность на отдельных людях, таких как Семблансе
в 1527: он был повешен. Ла Вьевиль избежал вероятности повторения
подобной
участи в 1624 только потому, что бежал из страны. Методы Парламента в
1648,
которые впоследствии явились образцом для очень эффективного натиска
Кольбера
на Фуке
и других ведущих финансистов в первые годы личного господства Луи XIV,
были
разработаны, чтобы не допустить перехода прав собственности на
имущество в
пользу кредиторов государства.
Как
правительство могло отреагировать на натиск, который, казалось,
представлял
собой финансовый здравый смысл и судебную честность, но фактически
вводил новый
принцип: никакой налог не был законен, если не зарегистрирован
Парламентом?
Последствия полного согласия с этим были ужасающими. Множество налогов
были
санкционированы arrêts
(постановлениями) совета; все aides
(подати) и gabelles
(габели), зарегистрированные в
Cour
des Aides (Высшем податном суде), находились в опасности до
тех пор, пока
их не спасло соглашение, предложенное Бруселем. Комитет, возглавляемый
им,
составлял и ревизовал список налогов. Анна, возможно, желала видеть
старика за
решеткой, но она официально одобрила его комитет и должна была принять
его рекомендации.
Она оказалась в состоянии спасти только пять из двадцати пяти процентов
отчислений в талью; ей также пришлось согласиться со списанием
большинства
недоимок. Остальная часть программы была принята или через деятельность
или
через неопределенные обязательства. Полномочия traitants
(откупщиков) были ограничены. Trésoriers
(казначеям), решительно восстановленным, передали
обязанности по продаже с аукциона новых налоговых арендных договоров. Comptants,
этот неоценимый финансовый инструмент, несмотря на то, что в теории
существовал
для 'секретных и важных дел государства', был ограничен тремя
миллионами
ливров.
Из
борьбы на истощение Парламент одержал знаковую победу. Некоторые
конечно
роптали, когда chambre de justice
(палата правосудия) была заменена в пользу государственной
контролирующей
палаты: в текущий момент это означало, что traitants
(откупщики) будут в безопасности. Но в целом, конечно, в Palais
de Justice (Дворце правосудия) царила эйфория. Правда,
несомненно
и то, что конституционные проблемы остались неразрешены. Мазарини
полагал, что
'большая часть монархии была отменена'. Смысл и содержание программы
реформ
Парламента, как ему казалось, зловеще указывали на английский опыт.
Парламентские
меры, которые привели к гражданской войне и разрушению монархии,
принадлежали
миру, отдаленному от того, что знала французская история или ее
характер мог
себе это позволить. Но это не мешало французским радикалам, черпавших
из этого
вдохновение, мечтать о том же самом. Анна не могла позволить теме
Англии быть
упомянутой. Унижение и своего рода моральное лишение свободы снова
стали ее
участью. На протяжении всей ее семейной жизни с мужем за это несли
ответственность министры короля; теперь тем же самым занимался
Парламент. Жизненный
опыт, равно как и внешнее давление, укрепляли ее связь со своим первым
министром. Они были двумя чужаками, которые не хотели сдаваться.
Наследование
сына всегда занимало ум Анны: какие бы сладкоречивые заявления о
лояльности не
делали те, кто выступал против его власти, для нее они были
предателями. Не
могло быть никакого прощения этим актам политического насилия;
следовательно,
ни о каком подлинном принятии их итогов речи идти не могло.
Такие
проблемы вряд ли беспокоили судей, получавших удовольствие от своих
политических успехов. Посвящая себя финансовой реформе и решительно
противостоя
попыткам роялистов изменить или уклониться от их требований, они
добились от
имени подданных одной из немногих серьезных побед; необходимо также при
этом
подчеркнуть, что в семнадцатом столетии во Франции только меньшая часть
подданных была наделена правами. Они даже не рассматривали сокращение
или
отмену привилегий владельцев должностей и дворян, которые вносили свой
вклад в
тяжелое положение простых людей. Этого невозможно было ожидать от
мужчин,
погруженных в ценности и традиции своей корпоративной структуры. Они
согласились бы с аргументом Монтескье,
произнесенным столетие спустя: их общие и частные права были первым
оборонительным рубежом против произвола власти.
Финансы
были, конечно, главной заботой правительства. Поэтому мероприятия
описанного
типа были обязаны оказать на него самое прямое воздействие, и не просто
на его
результативность, но также на его принципы и институты. Работа
интенданта,
исключая апелляцию к местным судам, сбор налогов и проведение
непосредственных
действий, предписанных его назначением, была напрямую связана с traitant (откупщиком) и его арендным
договором с суперинтендантом. Они были 'лакеями приверженцев, а не
людьми
короля' (Ле Куано). Lit de justice
(заседание с "королевской ложей"), последнее средство устрашения
абсолютизма, и lettre de cachet
(королевский приказ о заточении в тюрьму), перед которым гражданин был
беззащитен, находились в конце того ряда, который начинался с эдикта
или arrêt
(постановления), объявлявших о
новом налоге, увеличении старого налога, или любом другом инструменте
сбора
денег. Злоупотребление процедурами, примененными не так, как считалось
нужным,
оправдало окончательную забастовку Парламента. Следовательно, именно
поэтому
адвокаты были не в состоянии, в своем беспокойстве о балансе полномочий
в
пределах традиционного суверенитета, понять и оценить краткосрочные
потребности
государства? Этот вопрос не имеет ответа, так как он связан с
отдельными
идеями, в конечном счете, несовместимыми с правами на корону.
Большинство
парламентариев сознавало о необходимости действовать осторожно в
пространстве,
у которого было немного четко определенных границ. Они не могли совсем
уж игнорировать
тот факт, что занимали свои должности благодаря короне. Они как могли,
избегали
обвинения в том, что являются революционерами, действуя тщательно,
согласно
прецедентам или формулировкам, которые не допускали сильного урезания
особых
королевских прав. Даже во время демагогических отступлений они
сохраняли
определенное достоинство как представители не только фундаментального
закона,
но также и людского благополучия. Профессиональный опыт и высокий
нравственный
уровень гарантировали, что в данный момент они были неприступны.
Но
насколько долго? За программой реформ скрывалось неравенство интересов,
завуалированное до поры до времени некоторыми общими целями, которые
теперь
оказались в значительной степени достигнутыми, а также общим врагом -
Мазарини.
Но этот настоящий успех chambre
поставил знак вопроса в отношении дальнейшей пользы от временной
коалиции.
Теперь уже другие отдельные группы пытались эксплуатировать Фронду в
своих
собственных целях. Решительная же регентша и министры до сих пор
работали
сообща, и у них у каждого был свой стимул способствовать сохранению
режима. С
другой стороны, Парламенту никогда не было легко держать Cour
des Aides (Высший податной суд) и Chambre
des Comptes (Счетную палату) у себя в повиновении. Эти суды
оказались расстроены и задеты, когда Парламент настоял, что регистрация
ими
некоторых налогов недействительна без проверки Парламентом. Grand Conseil (Большой Совет) был
неудобным партнером с самого начала, ревнующим превосходство
Парламента.
Двойственное положение maîtres
des requêtes (адвокатов) представляло из себя
хроническую проблему. Многие из них все еще смотрел на королевскую
администрацию как на источник управленческой карьеры, в значительной
степени
теперь заблокированную отменой института интендантов. Тот факт, что сын
Моле,
Шлампатрё,
был
интендантом, иллюстрирует дилемму, которая стояла перед многими
парламентариями: как интендант Шампани, он оказался одним из немногих,
кто
сумел избежать отзыва. А кроме того, позиция Maîtres
(адвокатов) также пострадала от протеста Парламента в
отношении их недавно расширенных юридических функций. Мазарини
попытался
привлечь их на свою сторону. Он предпочел давать им старомодные
назначения для
выполнения некоторых обязанностей интендантов. Некоторые из них
действительно
были отправлены в провинции, но без своих званий и с тактично
ограниченным полномочиями.
Некоторые
же из реформ на практике смутили и самих реформаторов. Официальные
жалования
зависели от уплаты налогов. Энергия парламентского вызова поощряла
неуважение к
закону: ожесточенные налоговые уклонисты вряд ли находили различия
между
незаверенными и действующими полномочиями, надлежащими или незаконными
судами.
Отношения между trésoriers
и élus вернулись к
традиционным, когда
последние, собирая местные отчисления, увеличили размер своей прибыли:
старые
привычки умирали тяжело. Между оценкой Парламента, прогнозировавшей,
что
возвращение к старой системе сбора налогов может принести до сорок
миллионов
ливров дополнительного дохода, и оценкой министров, что на деле
окажется девять
с половиной миллионов ливров потерь, последние были намного ближе к
реальности.
Реформы не могли мгновенно изменить отношений: баланса между
государственной
службой и частной выгодой было невозможно достичь законами или
риторическими
обращениями. Оценка же правительства была основана на опыте. Это также
нашло свое
отражение в текущих замечаниях. Герцог Орлеанский предполагал, что
сорок
миллионов ливров будут потеряны с отменой долгов (он считал, что их все
еще
возможно собрать); еще десять миллионов - из-за сокращения тальи на
двадцать
процентов, а пять миллионов - из-за уменьшения парижского тарифа и
пошлин в
других городах. Это не была динамическая экономика, в которой
сокращение
налогов могло стимулировать расширение экономической активности. Но
зато образовывались
прямые потери, обостренные необходимостью соблюдения правительством
своих
обязательств по полной выплате официального жалования.
Вместе
с traitants (откупщиками),
соглашавшихся на более низкие платежи, а потому неохотно шедших на
дальнейшими
уступки; интендантами, отозванными из большинства областей и со знанием
того,
что новые налоги будут заблокированы судами, регентство страдало в
худшем из
всех миров. Без каких-либо выгод от предыдущих событий или надежд на
новый
финансовый режим, с войной, которую было необходимо финансировать,
каждый из министров
имел стимул сопротивляться. Бунт Парламента не был концом истории.
|