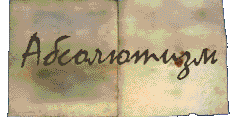
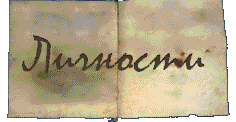
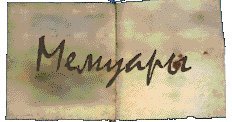
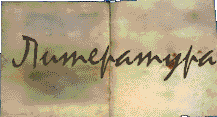

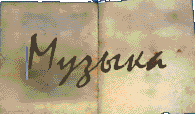
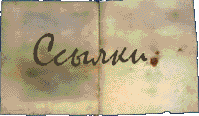
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ III.
ФРОНДА
.
«Дьявол
желает на свет и готовится к этому»
Р.Л. Стивенсон
.
15. Палата
Сен-Луи
.
Вслед за запретом короны на
проведение
заседания были проведены выборочные аресты членов Grand
Conseil
(Большого совета) и Cour des Aides (Высшего
податного суда), которые в
итоге только усилили решительность судов. Сегье, без сомнения
уязвленный
насмешливой общественностью прозвищем 'дрожащий канцлер', говорил с
парламентской
делегацией о той опасности, что власть Габсбургов будет искать в войне
победу в
последнюю минуту, если услышат о 'недовольстве людей'. Мазарини в
письме к
Лонгвилю выглядел озадаченным относительно того, что верховные суды
хотели, но
решили остановить свои действия: 'мы должны приложить усилия, чтобы
разрешить
этот вопрос'. Он был обеспокоен нехваткой денег: 'это тот голод,
который мы
теперь испытываем', так он описывал это Тюрену в его дипломатическую
миссию в
Оснабрюкке. 7 июня совет вынес решение об аннулировании arrêt
d'union
(объединенного решения). Парламент отреагировал на это призывом к
незамедлительному созыву заседания Chambre St Louis (Палаты Святого Людовика или Сен-Луи)
[Палата Сен-Луи представляла собой объединенное пленарное заседание с
участием
всех судов]. Анна удержалась от нанесения следующего публичного
оскорбления.
Было решено вызвать весь Парламент в Пале-Рояль, доставив регистр, в
котором
была сделана запись этого arrêt (решения).
16
июня судьи прошествовали туда в полном составе, облаченные в парадные
одежды, в
то время как тысячи парижан заполнили их маршрут вдоль реки,
поддерживая своими
криками, а затем толпясь вокруг дворца. Королевский ход не имел успеха,
поскольку обнаружилось, что судьи оставили регистр в Парламенте. Вместо
того,
чтобы вырвать оскорбительные для нее страницы, Анна могла только
просить, чтобы
парламентарии повиновались arrêt
(решению) ее совета, запрещавшему созыв Палаты Сен-Луи и угрожавшему
наказанием
тем мятежникам, которые ей противостояли. 'Во всех ее действиях с
Парламентом,
чью организацию и педантичный дух она никогда не понимала, она всегда
хотела
действовать деспотически, и ожидала, что эта компания исполнит все, о
чем она
распорядилась на своем совете.' Вероятно, сердитые слова Анны на эту
тему все
еще звучали в ушах мадам де Мотвиль, когда она писала эти строки. Моле
был
уверен, что он был прав: Парламент неделим. Или все его члены были
мятежниками,
или все были верными подданными короля.
Этот
эпизод повысил степень интереса к судьям среди народа, который
поддержал их
импульсивным представлением о том, что они служат интересам
большинства. Дебаты
плавно расширялись, охватывая не только финансы, но и более общие
экономические
темы, а также закон и управление. Внутри судей произошло разделение
из-за тактики.
Радикалы остались равнодушны к риску бунта в Париже и провинциях,
также, как и
к результату военных операций. Омер Талон был освистан, когда убеждал,
что для
Парламента лучше всего было бы обеспечить законность созыва Палаты
Сен-Луи, защищая
этот случай с Анной. Память о регентстве Мари Медичи, полном анархии,
тревожила
людей старшего возраста, среди которых Брусель был тем, кто выражал то,
что
можно было бы назвать лояльно радикальной позицией: как и прежде, суды
были
разделены, обсуждая только то, что могло предложить собрание в chambrе (палате). С отличавшей
его бравурностью он обратился к коллегам, предложив поместить fleur de
lys (геральдические лилии) в свои сердца и спасти
монархию, созывая заседание
Палаты Сен-Луи.
Природное
чутье Мазарини находить мягкие ответы теперь приобрело вес в совете.
Министрам требовалось
дождаться более спокойных дней, возможно ради заключения внешнего мира.
Тем
временем их ободряли известия с рынков, где цена муки понижалась:
теперь она
была приблизительно на пятнадцать процентов ниже, чем в январе.
Хлеб по прежнему был дорог, но уже серьезно дешевле цен,
зафиксированных за
четыре года до этого. С другой стороны, до сих пор было очень много
парижан,
которые могли позволить себе только корку хлеба. Их угрожающее наличие
в
какой-то части явилось причиной возрождения традиционных аргументов за
политику
протекционизма. В июле Палатой были высказаны предложения принять меры
против
иностранного текстильного импорта, которые могли бы 'значительно
уменьшить
безработицу среди menu peuple
(простонародья)'. Позади этой риторики в действительности скрывались
крестьянские ткачи, потихоньку заполнявшие города, чтобы найти там
работу или
милостыню. Спрос на товары и услуги в городах резко падал из-за
массового
отъезда богатых семей, ожидавших проблем: еще один аргумент за
примирение.
После войны, или даже во время зимнего перерыва в военных действиях,
войска могли
стать доступны для принудительных мер внутри страны. А тем временем, по
мысли
Мазарини, несколько уступок не причинили бы вреда: их всегда можно было
аннулировать. Все еще желающий быть полезным, герцог Орлеанский
попросил
сделать перерыв в работе Парламента, чтобы провести переговоры. 21 июня
он
предложил восстановить полету и выпустить заключенных в тюрьму trésoriers (казначеев). Сегье
заговорил
об ограничении полномочий интендантов.
27
июня королевская декларация фактически предугадала многие из реформ,
которые, в
конечном счете, были предложены Палатой. Но Парламент был скептичен в
отношении
ценности министерских заверений и ощущал, что со своими предложениями
"государственных реформ" он теперь попал в нужный поток общественного
мнения. Президент Бланмениль
заявил, что 'непредвиденное обстоятельство' принуждает судей защищать
сограждан, которых мучили или убивали за то, что они не заплатили свои
налоги:
он стал заметной фигурой в суде. Таким образом, 26 июня Парламент
бросил
жребий, проголосовав за собрание всех четырех верховных судов на общее
пленарное заседание. Анна обладала незначительным пространством для
маневров. От
суперинтенданта требовалось найти деньги; traitants
(откупщики) все еще отказывали в авансах, боясь отмены контрактов или
конфискации прибыли. Каждое сообщение из Парижа усиливало сигнал,
который
теперь достиг каждого угла страны: облегчение уже недалеко, так почему
подданные должны платить налоги? Уважение к правительству упало до той
точки, в
которой корона должна была капитулировать или перед Парламентом, или
перед
опасностью мятежа в армиях.
Мазарини
всю свою политическую жизнь был борцом. Его письма показывают, как он
занимался
дипломатическими и военными делами, тщательно вникая во все
подробности. Его carnets (записные
книжки) демонстрируют
то, что теперь является только частью истории. По ним можно
предположить, что
он прислушивался, в своей тревожащейся манере, как к озвученным слухам,
так и к
своему собственному пылкому воображению. Его непопулярность начала
становиться
решающим фактором, пятнающим имидж правительства. Как Брусель стал
идолом в
народе, так и Мазарини была присвоена роль пугала. В тех вспышках
ксенофобии, к
которой парижане были склонны не в меньшей степени, чем лондонцы, его
личность
поносили, а его намерения истолковывались наихудшим образом. Ему
вменяли в
вину, что он продлевал войну в целях своего личного обогащения.
Его
усилия по покровительству и продвижению нового музыкального театра
[имеется
ввиду итальянская опера] укрепляли имидж macaroni,
а его богатство было очевидным, как и итальянские скульпторы и
живописцы,
работавшие над отелем Тюбеф, на улице Нуво Пти-Шан, напротив стен
Пале-Рояля.
Он купил его в 1643 году, у финансиста Тюбефа; абсолютно в своем стиле
он
проследил, чтобы раннее расширение и приобретение земель были выполнены
под
именем Тюбефа [на самом деле официальная купчая на отель была оформлена
только
в 1649 году, до этого кардинал с 1643 года только арендовал отель у
Жана
Тюбефа, занимаясь при этом его расширением и строительством]. Шагая
вдоль своей
большой галереи, декорированной Романелли и его преемниками
мифологическими
сценами из Овидия, восхищенно руководя этим 'наступлением барокко' (по
словам М.
Лорен-Портмэ), он проделал длинный путь от своего первого жилья в доме
Шавиньи,
от Отеля де Клюни, традиционного места пребывания папских нунциев, и
Отеля де
Клев, в котором он жил, когда стал кардиналом. Тем не менее, он видел
свой
Пале-Мазарини, (который сегодня предоставляет собой здание Национальной
Библиотеки, выросшей вокруг ядра его оригинальной библиотеки), по
словам
Мотвиль, как место уединения, 'где он иногда был в состоянии
расслабиться среди
замечательных вещей, которые он собрал' и как место, где он мог
поселить своих
племянниц, 'mazarinettes'
(мазаринеток). Когда же он возвратился в Париж [после изгнания], то по
большей
части обосновался на втором этаже Лувра в Pavillon
du Roi (Королевском павильоне).
Его
достоинства стали его недостатками. Он был красив, значит, он развращал
королеву. Он был умен, значит, недоверчив; он был вежлив, значит
непременно
лицемерен. Таким образом, одно важное предварительное психологическое
условие
Фронды было установлено. 'Само его имя стало оскорблением,' пишет Мунье.
Парижские извозчики погоняли своих лошадей окриком 'или отдам вас
Мазарини!'
Предыдущий его опыт, по большей части опыт разумного общения в
утонченных
кругах, теперь мало чем мог ему помочь. Его навыки ведения переговоров
оказались бесполезны, столкнувшись с esprit
de corps (корпоративным духом) Парламента. Кому он мог
доверять? Он должен
стать другим Кончини? Неудивительный, что он был переутомлен.
Лояльность Анны
по-прежнему требовалось завоевывать. Герцог Орлеанский, воздействие на
которого
давалось ему так тяжело, пасовал перед любыми трудностями.
Поддерживающие
министры правительства не собирались жертвовать собой за него. А у тех,
кого он
сместил или устранил, особенно у Шавиньи и Шатонёфа, были причины его
атаковать.
Бофор недавно бежал из тюрьмы: cabale des
importants (заговор важных) формировался заново? Его шпионы
напряженно
работали: доказательства были перехвачены в форме анонимного письма
Бруселю от
'дворянина высокого ранга', намекавшего на поддержку Парламенту, если
он
останется в оппозиции. Такая мелочь отлично показывала, в каком
направлении
дует ветер. Однако, на данном этапе, его подозрения заходили слишком
далеко.
Гранды в основном были все еще лояльны короне, а некоторые из них были
даже
враждебны Парламенту, поскольку снова попали под его претензии.
Мазарини еще не
полностью потерял свою выдержку. Он всегда был готов прозондировать
парламентариев каждого в отдельности и узнать ему цену. Но, возможно,
он был
слишком нервирован для того, чтобы выносить здравые суждения. Его
состояние ума
в тот момент можно оценить из его отношения к президенту де Мему. За
этим
консервативным роялистом, который упорно отстаивал принципы абсолютизма
в
Парламенте, шпион Мазарини вел наблюдение просто потому, что тот был
братом
графа д'Аво,
которого Мазарини недавно отозвал из делегации в Оснабрюкке.
Глубокая
пропасть открывалась теперь между судьями, обладавшими патримониальной
и
корпоративистской точками зрения и королевскими министрами. Различия
были
обострены недавними дебатами: позиции выдвигались с осторожностью,
предположения выдвигались для проверки оппозиции, все это могло стать
укоренившимся образом действий. Это был тот процесс, которому Моле
старался
сопротивляться изо всех сил, пытаясь поддержать гибкость. Однако его
положение
было не самым простым. Он попытался защищать правительство, но получил
от
министров в этом лишь небольшую помощь и то, при этом надменно
поданную. Наиболее
радикальные адвокаты оскорбили его за определенные достижения, усмотрев
в пенсиях
и служебных продвижениях всего лишь взятки. Моле действительно был
агентом по
распределению в июне от суперинтенданта 25 000 ливров некоторым старшим
судьям.
Это масло было слишком тонко намазанным просто потому, что как правило,
уменьшилось
во время процесса распределения, как любые другие douceur (чаевые)?
Впрочем,
Мазарини получил с этого одну определенную выгоду: каждый день он
получал, от
некоего парламентария, который дал клятву конфиденциальности,
письменный отчёт
о судебных слушаниях, которые, по общему мнению, были секретны.
Возможно,
в результате этого Моле решил, что теперь он должен попытаться
удовлетворить
ожидания коллег. Созыв Палаты, заявил он, был законен: он это
утверждал, а не
просил. Это королевские министры поступают незаконно; Парламент же
просто
выполняет свою историческую роль защитника прав подданных. Его
замечание о
дурном влиянии иностранцев на регентшу совершенно очевидным образом
касалось
Мазарини. В этом смысле Фронда оказалась кульминацией долго
развившегося
конституционного конфликта, и это было только начало. Акты насилия,
которые
были еще впереди, гражданские войны, которые еще должны были
последовать,
только выдвинули эти проблемы в самый центр и заявили об этом по всему
миру.
29
июня Сегье дал согласие от имени регентши на созыв Палаты Сен-Луи:
используя
обтекаемые слова Мазарини, он выражал в нем надежду на то, что суды
будут
лояльны власти в новой Палате также, как и в прошлом, и что их работа
там будет
быстро закончена. На следующий день парламентарии и шесть
представителей от
других судов открыли заседание объединенной Палаты. Их проект,
законченный
через пять недель, в значительно степени подсказанный Сегье, был
настолько
умным и всесторонним, насколько это можно было ожидать от опытных
адвокатов. Хотя
они отклонили притязания trésoriers
(казначеев) и maîtres des
requêtes
(адвокатов) быть представленными в Палате, они предложили реформы,
которые отвечали
не только на их собственное недовольство, но также и на обиды более
мелких
парижских чиновников и других верховных провинциальных судов. В
способах,
которыми правительство взаимодействовало с ними, мало что
соответствовало изначальным
сладким речам. Когда Мазарини желал вовлечь судей в переговоры, он
называл их,
правда не вполне убедительно, 'реставраторами Франции' и 'отцами
родины'.
Однако даже если видеть в этом проекте истинное соглашение означает
упустить из
виду гнев Анны, возможно, оттененный некоторым недоверием в то, что
такие вещи
могут случаться.
Палата
Сен-Луи не имела прав Парламента по регистрации законов, которые, в
связи с
этим, должны были пойти надлежащую правовую процедуру через Парламент.
Кроме
того, план реформ был слишком далеко идущим и общим, чтобы быть с
готовностью
принятым сразу в виде конкретных постановлений. А случаев промедления
на таких
формальных слушаниях было вполне достаточно. К тому же при этом члены
Палаты не
могли действовать так, как будто во внешнем мире ничего не происходило.
Вокруг
каждого прозаического факта роилась толпа слухов. Никакие яростные
слова,
страх, надежда, отчаяние не могут полностью отразить настроения народа:
за
исключением небольших вариаций в виде ворчания и издевок, в нем было
все. К
тому же для мирного урегулирования подозрение друг к другу было слишком
глубоким,
а ставки были слишком высоки. Парламент изначально представлял собой
клиринговую палату по любым видам судебных дел и подаче документов.
Этот
практическое, будничное представление было предпочтительнее, чем любая
конституционная теория об ограничениях на королевскую власть, которую
сформировали предложения о реформе и вызвали эту Парижскую революцию.
Пока
другие верховные суды ждали завершения работы Палаты Сен-Луи, а maîtres (адвокаты)
самостоятельно
договаривались о своих делах с правительством, Парламенту представился
благоприятный случай. Поощряемые шумом общественного одобрения,
парламентарии,
вместо того, чтобы ждать полного пакета предложений от Палаты, взяли
каждую из
двадцати семи статей реформы по отдельности, и, используя их как
проект, начали
обсуждать и принимать на их основе постановления. Статус Парламента
гарантировал, что его лидерство будет поддержано многими
провинциальными
судами. Его решения автоматически были обязательны для трети Франции,
подчинявшейся
его юрисдикции. Опыт, полученный в более ранних баталиях, не был
потрачен
впустую. Когда возникла проблема порядка проведения заседаний в
Парламенте, то
возобладали умеренные голоса. Было решено, что arrêts
(постановления) Парламента не будет использоваться для того,
чтобы вносить изменения в контракты между суперинтендантом и traitants (откупщиками), соглашаясь с
тем, что заключение арендных договоров было прерогативой короны.
Протест
оставался единственным законным инструментом, который Парламент мог
использовать, чтобы обеспечить реформы, которые выходили за рамки
существующих
законов. Почтенная корпорация острова Ситэ пока что действовала в духе
Вестминстера и его представительского парламента!
Несомненно,
что события, происходившие по другую сторону Ла-Манша, оказывали свое
влияние
на некоторых из руководителей Фронды. Однако любой попытке рассмотреть
усилия
парижского Парламента в 1648 году в свете длительной борьбы в Англии
мешает
история с тальей. Поскольку контроль за налогообложением был ключом к
власти,
то повторение Парламентом традиционного положения, при котором он не
имел никакого
права рассматривать талью, означало, что даже в этот искушающий момент
это
позволит ему остаться на стороне короны. А значит, что не существовало
никакого
прецедента для принятия иных решений. Поэтому Парламент продолжал
выносить
ремонстрации с arrêts
(постановлениями)
только там, где они были бесспорно оправданы, и способами, которые
показывают
такую тактическую изобретательность, которая наводит на мысль, что,
возможно,
Мазарини и на самом деле мало что мог с этим поделать.
Корона
изредка использовала для ведения переговоров герцога Орлеанского. Он
направлял
судей в ситуации принятия судебного дела против интендантов, о том, что
их полномочия
были незаконны. Тщательно инструктированный в Пале-Рояле, он
разговаривал с парламентариями
о финансовых проблемах, которые делали продолжение работы интендантов
необходимым. Казалось, теперь он стал примером лояльности и мог
держаться и
разговаривать с королевским изяществом, но его собственная пестрая
биография
была против него. К нему необходимо было относиться серьезно? Можно
только
вообразить, как Ришелье сверху наслаждался иронией того, что его
матерый враг
защищает его абсолютистское наследство. Покойный кардинал, дух
которого,
кажется, временами парил над этой ожесточенной борьбой, возможно,
отдавал
Гастону свою дань уважения, поскольку теперь он стремился служить своей
династии.
Как
только Анна проиграла реформы в Париже, она вынуждена была отправить
декларации
о них провинциальным парламентам. Одна из таких деклараций заключала в
себе
далеко идущие последствия: 10 июля из всех провинций были отозваны
интенданты,
за исключением некоторых определенных пограничных областей, 'где они
должны
были помогать губернаторам выполнять их функции". Итог этого действия
подтвердил худшие опасения Мазарини, поскольку traitants
(откупщики) ясно поняли, что теперь они потеряли свою
защиту, равно как и любые шансы на то, что контракты с ними будут
полностью
соблюдаться. 12 июля корона дала разрешение на созыв chambre
de justice (палаты правосудия) с полномочиями расследовать
случаи 'поборов, насилия и вымогательства, имевшие место во всех
провинциях
нашего королевства'. Подобное мероприятие было предпринято еще в начале
регентства, но некоторые парламентарии теперь воспринимали его как
мошенничество,
преследовавшее на деле своей целью прекращение судебного расследования.
Аналогично этому освобождение 9 июля Эмери от должности суперинтенданта
теперь
интерпретировалось как действия Мазарини, направленные на то, чтобы
предотвратить разоблачения, которые, возможно, мог сделать
суперинтендант на
суде.
Однако
в руках Парламента все еще находилась верховная судебная власть, и
именно он
рассматривал дело trésoriers
(казначеев). Заключенные в мае в Бастилию, они были теперь отпущены на
свободу;
были предоставлены средства для выплаты им жалования. Осознание того,
что
Парламент мог начать рассматривать дела по ним, побудило министров
сделать
щедрые предложения maîtres
(адвокатам). Последние поблагодарили регентшу, но категорически
отказались засвидетельствовать
уважение по отношению к Мазарини. После восстановления полеты в
верховных судах
Парламент на самом высшем уровне поддерживал давление от имени других
чиновников до тех пор, пока они также не получили уступку. Таким
образом, весь
июль министры отступали до рубежа, на котором необходимо было уже
оказывать
сопротивление. 31 июля Анна ответила на дальнейшую партию ремонстраций,
созвав
очередное заседание lit
de
juctice. Возможно,
Мазарини убедил ее, что победа маршала Шомбера под Тортугой должна была
произвести благоприятное впечатление. Далее, чтобы уменьшить
беспокойство, она
дала обещание Ассамблее нотаблей
в отношении сроков разрешения проблем внешней политики.
Мазарини
написал в этот день о королевской сессии и поведении короля: 'он был
настолько
полон изящества, что был принят с таким же большим уважением'. Он
полагал, что
все было улажено с аплодисментами судей? Он кажется оптимистичным. О
налогах,
главной причине кризиса, он писал: 'мы израсходовали весь приход за
этот год и
за два последующих года'. Вероятно, в lit
(ложе) молодой король наблюдал восхищенные лица. Он, конечно, увидел
реестры
Парламента, но не раньше, чем услышал предупреждение Моле о том, что
его трон
будет пребывать в опасности, если реформы не начнутся всерьез как и
речь Талона
о том, что короли 'обязаны своим богатством и величием своей короны
разным
качествам людей, которые им повинуются'. Некогда Луи, возможно, думал,
что он
действительно командует, а эти люди действительно повинуются ему. А
между тем
мальчику необходимо было дать ответ, со всем тем самообладанием, какое
он мог,
после обучения, данного ему Мазарини, сохранить в себе, на тяжелые
слова этих
сановников в мантии. Сверх того, как будто для того, чтобы показать,
как
немного значили для них королевские пожелания, судьи возобновили свои
дебаты.
Анна тогда отправила к ним герцога Орлеанского, уполномочив его
предупредить
судей воздержаться от этого. Судьи согласились, но только на то, чтобы
отложить
экспертизу статей реформы на короткий промежуток времени. В середине
августа
они возобновили работу и официально известили некоторых traitants
(откупщиков), 'членов позорной профессии', о начале
расследования по ним судебных дел [к этим traitants
был отнесен ряд личных банкиров Мазарини – Тома Кантарини и
Пьер Серантони,
задеты были также Бартелеми Эрварт и банкирский дом Сенами]. Они
выпустили ряд arrêts
(постановлений) о перечне
определенных налогов, которые не могли взиматься до тех пор, пока не
пройдут
регистрацию, 'подчиненную наилучшим желаниям короля', фраза, которая,
как они
надеялись, должна была застраховать их от карательных мер в отношении
себя.
Заседание
с королевской ложей потерпело неудачу. Правительство вынуждали сделать
выбор
между финансистами и судьями. Существует прямая связь между действиями
Парламента
против traitants (откупщиков) и
событиями, последовавшими 26 августа. Вдобавок к этому контратаке
короны мешали
новости из провинций. 20 июля интендант Лозун написал Сегье: 'слухи,
прибывающие из Парижа, наносят такой ущерб королевской службе, что я не
знаю,
будем ли мы сметь требовать от людей талью за 1647 или 1648 год. Общее
освобождение от уплаты налогов ожидается таким, как будто в
казначействе были
внезапно найдены серебряные рудники Перу'.
И
все это происходило в тот момент времени, когда оппозиция начала
приобретать
свое имя. Однажды Башомон, сын прямого президента Ле Куано,
объявил, что он намеревается стать 'фрондером': вскоре слово 'фронда',
означавшее петлю, которой парижские хулиганы швыряли грязь или камни,
оказалось
у всех на языке.
Это
слово было особенно метким, так как было тривиальным и фривольным;
однако, не слишком
глубоким по отношению к проблемам, скрывавшимся позади риторики. Люди
желали
ограничиться войной слов?
В контексте,
в котором Ллойд Мут описывает Францию как 'страну с уникальным
потенциалом для
широко распространяющегося переворота', а Мунье - как 'государство
перманентных
беспорядков', всегда существовал шанс жакерии. Босоногие Нормандии
очевидно использовали
свое прозвище как формальный протест.
Позже, в 1643, крестьяне Рурга несомненно подстрекались местным
сеньорами.
Теперь действия крестьян достигли угрожающего состояния, напоминая
парижанам об
угрожающей действительности, скрывающейся за риторикой адвокатов. Даже
в
наибольшем городе Франции, с его четырьмя сотнями тысяч жителей,
сельский мир вторгался
в мир буржуа и ремесленника: переполненные улицы сосуществовали рядом с
возделываемыми полями. Контраст подчеркивался перенаселенной природой
города.
Почти все парижане видели из своих окон улицу или внутренний двор. Лишь
у пяти
процентов был сад. Эти два мира [городской и сельский] сходились на
рынках,
куда сельские мужчины и женщины ежедневно приносили свой товар, ставили
прилавки, обменивались сплетнями и слухами. Дебаты предыдущего дня в
Парламенте
становились историей следующего дня в таверне. Парламент был защитником
материальных интересов парижан, имея полномочия управлять рынками,
ценами и
запасами продовольствия, государственными дорогами и мостами,
больницами,
благотворительными учреждениями, а также разбираться с делами о
преступлениях,
нищете и проституции. С тех пор, как он встал в очевидную оппозицию по
отношению к королевскими министрами, он получил в грубой логике, а
заодно и в
грубых способах горячую поддержку крестьян. 20 июля около шести тысяч
крестьян
объединились под руководством Модона. В последующие четыре дня не
прекращались
организованные и шумные демонстрации: сокращение тальи было их самым
настойчивым лозунгом.
|