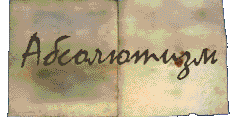
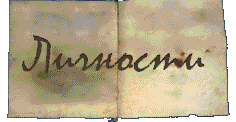
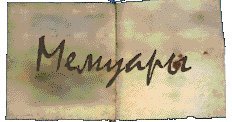
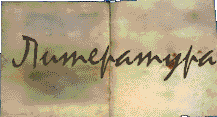

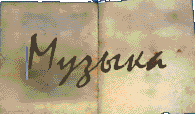
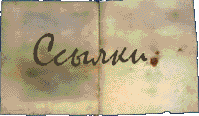
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ III.
ФРОНДА
.
«Дьявол
желает на свет и готовится к этому»
Р.Л. Стивенсон
.
14.
Надвигающаяся буря
.
15
января 1648 года девятилетний Луи XIV присутствовал на заседании lit
de justice в Парламенте Парижа. В окружении матери, своих
министров,
принцев крови и ducs
et
pairs
(герцогов-пэров) он объявил свое желание: судьи должны зарегистрировать
семь
финансовых указов. Величие Франции говорило дискантом, но не детский
голосок
ослабил решительные слова. Ни споры о праве регента проводить процедуру
lit
de justice с
использованием несовершеннолетнего короля, ни тот факт, что корона
была неплатежеспособна, сами по себе в отдельности не являлись
достаточной
причиной для Парламента, чтобы устроить забастовку. Однако именно
сплетение
конституционных и финансовых проблем вместе создало новую политическую
модель,
заставив здравомыслящих и умеренных состоятельных людей рассматривать
вопрос об
открытой оппозиции.
Мазарини,
возможно, не интересовали тонкости налоговой политики. Однако главный
вопрос о
доверии был неизбежен. Traitants
(откупщики)
отказывали в
авансах, замерев в ожидании исхода ситуации. Неоплаченные войска
колебались, в
то время как требовалось начинать кампании, на которые хотели
надеяться, что
они будут последними; дипломатические преимущества, купленные дорогой
ценой,
были потеряны в последних раундах переговоров: все эти неприятности
разом,
наряду с привычкой Мазарини к высоким рискам, явились, по всей
вероятности,
неопровержимым аргументом за самоуверенную атаку. Анне также
понравилась идея
всестороннего пакета, который мог бы одновременно и утверждать ее
власть и
изымать ресурсы у некоторых богатых подданных. Парламент был обязан
принять
парижскую пошлину, введение новых должностей на продажу, взыскание
платы за
феодальную собственность, приобретенную недворянами, включая долги
вплоть до
1634 года и еще группу других налогов. Но вопреки всему королевская
семья и
самые представительные люди этого королевства услышали незабываемый
ответ от avocat-général (генерального адвоката).
Омер
Талон не был радикалом. Портрет Филиппа де Шампеня представляет его
человеком определенного
достоинства: ало-черная мантия, правильные черты лица, коротко
стриженые седые
волосы и серьезный взгляд, воплощающий в себе гражданскую
ответственность - он
был достойным объектом для этого великого художника.
Не смотря на то, что он, вероятно, получал удовольствие от
благоприятного шанса
прочитать Анне и двору наставления о положении, в котором находилась
страна, он
не мог расслабляться. Чтобы эффективно ходатайствовать к короне, он
должен был
быть уверен в обоснованности дела и благожелательности аудитории. Так
как ничем
из этого он не располагал, то ему пришлось использовать чрезмерный
язык, чтобы
смягчить свое положение. Он осудил использование процедуры lit de justice для проведения в жизнь
финансовых мероприятий и
попросил Мазарини не отменять полету. Его традиционная, довольно
старомодная
риторика
повторяла известные темы: долг Парламента помогать королю в управлении,
непомерные
налоги, грехи финансистов. Критикуя, он заявил, что эдикты не могут
быть
действительны, пока не пройдут проверку в независимом суде. Он считал,
что
проверка, когда король заставляет зачитать их в своем присутствии была
'своего
рода иллюзией в этике и противоречием в политике'. А его описание
бедствий
людей было достаточно близко к тому, что многие из его аудитории видели
сами.
Люди,
говорил Талон, не могли питаться 'пальмами и лаврами' разрушительной
войны. В
отношении Анны и Мазарини он, безусловно, зашел слишком далеко, когда
убеждал
королеву обдумать эти ужасы 'в одиночестве своей молельни'. Перед этим
она
пережила достаточно тяжелое время. В течение нескольких недель перед
Рождеством
Луи был серьезно болен оспой: она ухаживала за ним. Физическое и
эмоциональное
напряжение сказалось, когда сама Анна поддалась лихорадке. Теперь же
она ждала
от будущего лучшего года и не была расположена к шутливому настроению.
Даже если
кардинал и предпочитал более постепенное наступление, то ему все равно
было
необходимо считаться с Анной, которая, по всей видимости, была
рассержена
беспричинным оскорблением и теперь тосковала по гражданскому Рокруа. Maîtres des
requêtes (господа адвокаты) должны были уловить ее
дурное
расположение духа: 'Несомненно, вы - совершенные люди, чтобы обсуждать
мою
власть'. Она в достаточной степени знала французскую историю, как и
методы
борьбы своего мужа с упрямыми судьями, чтобы надеяться на то, что они
подчинятся королевскому пожеланию.
А
они и не бросали открытого вызова королю, и не сопротивлялись
регистрации.
Вместо этого, подчиняясь королевскому праву требовать, они баловались
парадом
протеста, демонстрируя свои обиды миру и фактически лишая законы их
реальной
силы. В то время как парижане объединялись со своими воображаемыми
защитниками,
сам Парламент также сомкнул свои ряды. Анна и ее министры помогли
создать
существенные предварительные условия для этого: их противники теперь
объединились под лидерами, способными к действиям, которые можно было
предпринять без нужды или склонности отходить от образа действий
конституционной добродетели, а позади них уже находилась реальная
сплоченная
масса народной поддержки. Несомненно, что здесь, на этом этапе,
произошла
полная перестановка ролей: корона так обидела консервативное
большинство, что оно
теперь было готово действовать сообща с нетерпеливыми молодыми
адвокатами, а
кроме того, и в Париже, и в провинциях - со всеми, начиная от гордого
дворянина
и заканчивая безрассудным бандитом, кто испытывал заинтересованность в
беспорядке. В этой чреватой и запутанной ситуации корона была уязвима;
как,
впрочем, и сам Парламент. Его руководство призывало к рассудительности
и
выдержке. А это являлось исключительными достоинствами premier président (первого
президента) Матье Моле.
Моле
происходил из семьи юридической аристократии, эквивалента которой не
существовало в любой другой стране. Вместе с парламентскими механизмами
по
удержанию должности в пределах узкого круга, своим значительным местом
в
официальных делах управления королевством и личными связями с
финансовой и
правительственной élites
(элитой),
Моле неизбежно шел по пути заинтересованности в сохранении
собственности и
привилегий.
(Очень типичен тот факт, что жена Моле была дочерью другого président (президента); а его
сын,
Шамплатрё, был перспективным интендантом.). Эта заинтересованность была
истинной силой, которая, при этом, давала ему независимый голос. Какую
реальную
силу мог иметь этот голос, в разное время зависело от личности первого président (президента).
Например, он
противостоял Ришелье в вопросе по аресту и заключению Сен-Сирана.
Возможно, близкие связи Моле с янсенистами через его дружбу с семьей
Арно
беспокоили Ришелье, однако кардинал уважал первого президента за его
принципиальный консерватизм, находя галликанские тенденции в Парламенте
при
случае очень полезными для себя. Оставив относящиеся к церковной
доктрине
вопросы в стороне, все же нетрудно увидеть, что Моле, как друг
Пор-Рояля и
сторонник янсенистов, придерживался законности в доводах и строгости в
этике.
Но, во всей видимости, он также, в силу своей честности и уважения к
совести,
черпал достоинство и силу из собственной трактовки традиций Парламента.
Таким
образом, верный роялист Моле был настроен вернуть монархию к настоящему
смыслу
ответственности за благополучие общества. Его красноречие служит
доказательством его понимания общества выше классов и осознания
ожидающегося
разворачивания трагедии. Он видел, что молодой король неизбежно попадет
в
основной центр действий, даже если другие говорили про его курс: 'Это -
губительный
момент, когда величие, запечатленное в его самообладании, которое само
по себе
выделяет его из обыкновенных людей, не уважается за нежные и истинные
чувства,
сообщаемые им сердцам людей, но видятся только как средство добиться
желаемого,
заслуженно или незаслуженно'. Моле не задавал вопросы королевской
власти, но
просто желал, чтобы королю хорошо советовали. Остальные были менее
уважительны
или порядочны.
В
эти дерзкие месяцы Пьер Брусель
стал как популярным защитником народа и центром объединения судей,
которые,
возможно, в ином случае были бы менее решительными, так и целью
королевской
контратаки. Моле, вероятно, надеялся, что достаточно было бы дать
судьям
возможность изучить вновь зарегистрированные указы и это поглотило бы
всю их
буйную энергию. Он обратил внимание Анны на то, что réglement
(регламент) Луи XIII от 1641 года разрешал ремонстрации
после процедуры lit de justice: им
должны были предшествовать рассмотрение и обсуждение. Однако Омер Талон
видел
глубже. 'Свобода дебатировать', говорил он, 'приведет к возможности
изменения
законов и добавления в них условий, которые аннулируют их выполнение'.
К тому
же это бы являлось сигналом для других ущемленных групп добавить свой
вес к
протесту.
Сначала
среди них оказались maîtres des
requêtes
(адвокаты). Когда корона лишила их функций в советах, государственные
советники
отказались от работы на своей должности: протест распространился до
исполнительной власти. Январь принес новости о мире между Испанией и
Соединенными провинциями (Голландией).
Это была неудача для Мазарини, так как она значительно осложнила для
него
дальнейшую работу по обеспечению самых благоприятных условий на
переговорах;
однако это оказало давление на него при завершении переговоров с
Австрией,
возможно настолько, что были сделаны хорошие приобретения; все это
вместе, казалось,
не очень задевало служащих магистрата. Но для Мазарини это было не
самой
наименьшей из проблем, поскольку он непрестанно работал в области
дипломатии,
которая была сложна и далека для большинства парижан, которые в связи с
этим
имели тенденцию полагать, что он безразличен к их настоящим проблемам.
Очень
немногие, исключая небольшую группу министров и тех, кто реально имел
некоторое
отношение к политике, понимали концепцию государственных интересов,
которое
могли не принимать во внимание людей или отдельные фракции.
Однако
новости из-за границы все же могли возбуждать парижан, если им
казалось, что
они похожи на их собственные проблемы. Короткое неаполитанское
восстание под
руководством Мазаньелло, по своей сути хлебный бунт, не долго привлекал
внимание, заставив лишь однажды парижских мятежников кричать 'Наполи!'.
Гораздо более важным было то, что в Англии Чарльз I был не в состоянии
все
более и более отчаянными маневрами вернуть себе власть и что
политический
процесс там теперь уже контролировали Кромвель и его армия. Уже скоро
они
должны были привести этого 'благородного человека' к судебному
трибуналу и
казни на эшафоте.
Тем
временем горожане, привыкшие воспринимать Париж центром вселенной, были
поглощены редким зрелищем: сражением между короной и Парламентом,
приветствуя
или опасаясь перспективы анархии, или просто сознавая, что здесь
происходят
события, которые касаются их всех.
После
бурных дебатов и ремонстрации на указ о налоге на отчуждения от
королевских
доменов, Парламент наложил запрет на предложенные авансы. Тогда Анна
подняла
фундаментальную проблему права. К сожалению, вместо того, чтобы
утверждать
королевский прецедент, она выразила свое требование в форме вопроса:
судьи
хотят отрицать принцип королевского абсолютизма? Мазарини, письма
которого
показывают, насколько он был занят иностранными делами, возможно,
смирился с
неистовой королевой или, же, возможно, сам по себе был не в состоянии
увидеть
опасность такого приглашения на конституционные дебаты. Гонди же,
несомненно
сделал это. 'Завеса', окружающая 'тайну государства': сорвите ее, и
уважение,
которое естественным образом подданные ощущают к своему суверену, может
исчезнуть. Лефевр д'Ормесон
был потрясен. Анна пыталась 'подтолкнуть Парламент к совершению в
отношении
себя чрезвычайных действий'? То, что радикальные судьи с каждой сессией
становились все более враждебными к регентше, было неизбежно. Моле
пытался помогать
королеве, приостанавливая обсуждение. Анна же наоборот, помогла своим
критикам,
настаивая на ответе.
3
марта «оракул» Дворца Правосудия вынес вердикт в
искусно двусмысленных
выражениях. Изменение указа было 'подчинено воле короля'. Однако это
было
сделано таким образом и таким публичным способом, что корона была
вынуждена
защищаться. Беспокоясь о незначительном большинстве, которое держало
радикалов
под контролем, Талон добавил обнадеживающие пояснения. Сегье ответил
вежливо.
Он в течение нескольких лет был занят страстным диалогом с лидерами
парламентариев о месте королевских советов и интендантов в судебной
системе. Однако
он понимал беспокойство судей, вызванное совокупным воздействием
размывания
традиционных обязанностей и девальвации должностей из-за вновь
создаваемых.
'При условии, что власть останется у короля, он будет рад собрать совет
при
участии Парламента'. Тем не менее, его гладкие слова не смогли
заставить судей
отказаться от использования полученных преимуществ. Они обставляли
ненавистный
парижский тариф условиям, которые делали его фактически
недействительным. Анна
намекнула, что может применить силу.
Тем
временем Моле использовал каждый способ, процедурный и вербальный,
чтобы
держать парламентскую свору под своим контролем. Они учуяли кровь, и он
предчувствовал
репрессалии. Гибкими объяснениями он умело притуплял выпады ряда
следовавших
друг за другом постановлений Парламента, как только они передавались
двору.
Искусным маневром, в котором его враги видели подтасовку результатов
голосования, он обеспечил существенную уступку регентше: 17 марта
поправка к
тарифному эдикту была перефразирована так, что стала письменной
ремонстрацией. С
этим документом парламентарии, повинуясь требованию Анны, пришли всем
корпусом
в Пале-Рояль. Их принимали очень холодно, пока Анна не удостоверилась,
что они
действительно подчиняются ее власти и что принцип абсолютизма не
затронут: такие
формальные решения могли приниматься только королем. Обе стороны
приобрели
небольшую передышку. Магистранты искали некий признак того, что
министры найдут
какой-нибудь способ удовлетворить их требования. Они внимательно
следили за
окончанием войны и возможностью проявить свою власть. Тем временем
Парламент
нашел способ выступить против короля и при этом избежать неприятностей,
связанных с этим.
23
апреля Сегье предоставил Анне ответ на ремонстрации Парламента. Денег
должно
было быть собрано больше: корона не забрала ни одного из своих эдиктов.
Предполагая, какая реакция может на это последовать, Моле отложил
сообщение о
королевском письме на десять дней. Между тем Анна, которая уже отменила
отдых
за городом, который она обычно брала в это время, предприняла новые
действия. 30
апреля полета был восстановлена: для Парламента почти на обычных
условиях, для
других верховных судов при условии оплаты, составляющей жалованье за
четыре
года, для maîtres
(адвокатов) полета
не была восстановлена. На эту тактику 'разделять и завоевывать'
потерпевшие
стороны дали свой собственный ответ. 4 мая судьи Enquêtes
(следственной палаты) ворвались в Большую залу заседаний и
потребовали созыва пленарного заседания. Теперь спорным вопросом стала
полета.
О
роли самого Мазарини во всей этой торговле можно только догадываться.
Но он не
был пассивен. В мае у него состоялась длинная беседа с Талоном, в
которой он
объяснил свою тревогу по поводу влияния подстрекательских речей на
мнение за
границей. У него имелись и другие средства убеждения: вскоре он
предложил
Талону аббатство для брата. В отношении Моле подобные средства не
применялись.
Мазарини не был саркастичен, когда говорил про Моле, что 'он любит
государство'. Однако время от времени он был настроен критически по
отношению к
усилиям первого президента. Он, возможно, недооценивал те трудности,
что стояли
перед Моле или подозревал первого президента в том, что тот ведет свою
собственную игру, являющуюся игрой Парламента. Кардинал знал, что Моле
давно
проводит кампанию по возвращению в свою юрисдикцию тех областей закона,
в
которые бесцеремонно вторгались интенданты и королевские советы; и что
именно
он утверждал, что Парламент будет помогать короне, только если она
будет
поддерживать его традиционные функции. Разве не следовало из этого, что
первый
президент мало искренен в своем противодействии горячим головам,
которые
жаловались на то, что Анна действовала так, словно будто она была
покойным
королем, а Мазарини - другим Ришелье?
В действительности
же никогда еще различия между этими двумя кардиналами не были столь
отчетливыми
или столь значительными. Мазарини знал недостаточно много о традициях и
принципах чиновничьей аристократии, базировавшейся на острове Ситэ. Его
собственный опыт пути во власть делал трудным для него признание
альтруизма,
когда он с ним сталкивался. Возможно, поэтому он слишком легко
склонялся к
предубеждениям регентши. По окончательному рассмотрению становится
очевидно,
что увеличивающееся глубокое расхождение во взглядах между
правительством и
судьями касалось как приоритетов, так и принципов. Парламент, будучи в
первую
очередь институтом права, был обеспокоен правами и статусом; а корона,
по сути,
не в меньшей степени заботилась о ведении и окончании внешней войны.
Все эти различия
легко можно обнаружить в тенденциях дворцовых убеждений и
пренебрежительных
выражениях, в которых обсуждались дела: Моле - лицемер, Талон -
напыщенный
осел, а парламентарии - вообще мятежники. Срыв планов отравил взгляды и
мнения.
Опытные министры, желая результатов, становились нетерпеливыми в
дебатах. И если
это верно даже для демократических режимов сейчас, то до какой степени
это было
гораздо актуальнее в те времена, когда палата не была представительной,
а являлась
только дополнением исполнительного процесса? И все же существовали
пределы тому,
что можно было сделать. Корона угрожала применением силы, но кто бы
выполнил
эту угрозу? Войска практически полностью находились на границах, и, как
надеялись - в заключительных кампаниях.
Проблема
полеты указывала Анне, Мазарини, и, несомненно, Сегье, на наихудшее для
них. Предполагать,
что Парламент может сам по себе отделиться от членов верховных судов, а
также
от maîtres (адвокатов) и
высших
финансовых чиновников, все из которых пострадали от невыплаты
жалования, было
лицемерием. Политический климат теперь весьма отличался от 30-ых годов,
когда
Сегье только вошел во вкус жесткого управления: тогда министры могли
выдвигать
инициативы, которые явно изменяли баланс между исполнительными и
юридическими
институтами, поскольку они видели, что Ришелье работает в партнерстве с
взрослым королем. Однако удивительно было то, что при этом совершенно
не
обращалось никакого внимания на родовую природу юридических и
финансовых
иерархий, где братья, племянники, кузены и друзья занимали целые
эшелоны.
Внутри
залов правосудия могло существовать то, что Агюсо
назвал 'величественной тишиной трибунала; уважение, почтительный страх,
с
которым истец оказывается перед судьей; все эти вещи, кажется,
поднимают его выше
уровня обычных людей'. Однако снаружи была bas
peuple (чернь), беспорядочная, любопытная, внушающая страх,
и, тем не
менее, не упускаемая из расчетов. Судья, облаченный в мантию и
квадратную
шапку, в сопровождении своего слуги выходил в галереи, заполненные
прилавками,
продающими все - от одежды до каштанов, истцами, адвокатами, клерками,
чиновниками, прихлебателями, проститутками и посетителями всех сортов,
приличные
люди среди которых, очевидно, появлялись главным образом тогда, когда
существовала только какая-нибудь большая политическая или религиозная
проблема.
От этого оживленного места,
расположенного в
центре, как от биржи или трактира, текли сплетни и слухи, питавшие
политические
познания обычных парижан. Это был мир, в котором репутации росли в цене
и
падали как товары на бирже; в котором главные лица, обученные римской
истории
так же, как и закону, поощрялись на красивые жесты, искушаемые
театрально сыграть
перед аудиторией, включавшей в себя дома на протяжении всего города.
Это была
школа для демагогов. Множество парижан были в достаточной степени
голодны и
недовольны, чтобы буквально понимать смысл фраз, рождавшихся как из
традиционных
тем, так и от понимания текущего кризиса или сочувствия его жертвам.
Они также
задумывались над тем, что от Пале-Рояля не стоит ожидать ничего
хорошего. Правительство
оказалось поражено яростной реакцией на их предложение о полете. Когда
представители Grand Conseil (Большого совета), Chambre
des Comptes
(Счетной палаты) и Cour des Aides (Высшего
податного суда) встретились в
зале заседаний последнего, они собрались вовсе не для того, чтобы
спорить по
поводу старшинства: они просили Парламент присоединиться к ним.
Парламентарии
дружественно отнеслись к поддерживавшим их судам. Диалог шел о
продолжении
поддержки чиновников в пределах юрисдикции Парламента. Maîtres
(адвокаты) были также уверены в сохранении покровительства. 13 мая
Парламент обнародовал
свое arrêt d'union (общее решение).
Тактика
короны опиралась, прежде всего, на условие, что Парламент никогда не
будет
объединяться с другим судам. Решение собрать пятую корпорацию 'без
законной
власти' было, как признавал Сегье, 'опасно и наносило ущерб порядку в
управлении государством'. Arrêt
(постановлением) совета было объявлено, что 'разрешить любое
экстраординарное
собрание без согласия и желания короля будет эквивалентно созданию
новой
власти'. Но за решительными словами скрывалась нервозность. В каких
областях
этот союз искал компенсаций и реформ? Уж не в тех ли, что подвергались
ужасам
войны? То, что в провинциях проводилась некоторая агитация, было
бесспорно.
Возможно, что провинциальные губернаторы, которые стремились
умиротворить
местные парламенты, как, например, Лонгвиль в Нормандии, проделали
хорошую
работу: их воздействие трудно переоценить. Но верно также и то, что
оппозиция
укреплялась, поскольку в провинциальные столицы приходили новости об
активном
ходе событий в Париже.
Например,
в Тулузе парламентарии обнародовали arrêts
(постановления) и remonstrances
(ремонстрации), требуя запрета
любых эдиктов, не прошедших
проверку в Парламенте, сокращения требований по недоимкам тальи и
подсудности
по апелляциям в отношении муниципальных выборов. Но что бы ни
происходило, это
не было в каком-либо виде объединением судов по всей стране. Долгое
время эта
идея существовало как теоретическая вероятность, с тех пор как ее
впервые
сформулировал канцлер л'Опиталь
в 1560 году как один из критериев более эффективной власти: 'Если бы
король мог
осуществлять свою высшую судебную власть через единственный парламент,
то он бы
сделал именно так. Различные парламенты - это только подразделения
королевского
Парламента'. Однако провинциальный дух был настолько силен, что судьи
Дижона и
Тулузы, к примеру, в сложившейся ситуации видели опасность в действиях,
которые
могли бы привести их в будущем к подчинению парижскому Парламенту.
Общая
реакция состояла все-таки в том, чтобы занять осторожно-нейтральную
позицию.
Бретонский парламент игнорировал постановления королевского совета. Тем
временем были улажены некоторые старые счеты: в Рене был повешен
королевский
налоговый чиновник. Это, как мог бы подумать циник, явилось итогом
провинциального ответа на ту новость, что правительство оказалось в
беде.
|