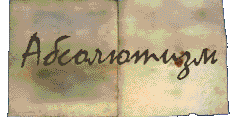
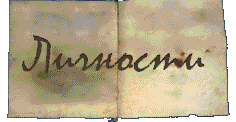
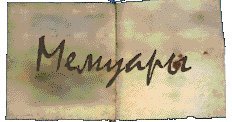
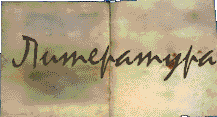

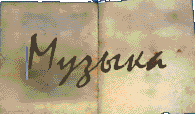
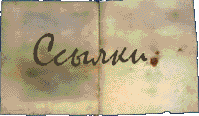
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ II.
СЛУЖБА ФРАНЦИИ
.
«Я
присоединился к кардиналу инстинктивно, даже
прежде, чем понял из опыта, что он великий человек»
Жюль Мазарен
.
9.
Приемная страна: бедность и беспорядок
.
Вполне
вероятно, что в самом начале Мазарини многого не знал о стране, которая
его
приняла, и у него до этого не было шансов приобрести всех нюансов
знаний о ней,
которыми французы обладают от рождения. Его знакомство со страной
изначально
было встречей на высшем уровне, где действовали дипломаты. Это
утверждение
только усилится, если сравнить его обучение власти с такими
интендантами, как
Ле Телье или Сервьен, которые обучались навыкам государственного
управления в
ежедневной рутинной работе провинциальных правительств, касавшейся
вопросов
правосудия, налогообложения, социально-бытовых проблем и работой над
выполнением непосредственных служебных обязанностей. Мазарини
практически сразу
по приходу к власти пришлось сконцентрироваться на разрешении
ежедневных
проблем, которые являлись вершиной всех процессов, происходивших в
государстве,
и у него оставалось не слишком много времени для того, подробно
рассматривать,
чем же на самом деле они были порождены. Основной его заботой стали
меры,
помогающие ему успокаивать или пресекать недовольство или
сопротивление. Во
многом ему пришлось опираться на опыт таких людей, как Сегье,
которые знали государственную систему изнутри. Тем не менее, ему часто
приходилось принимать решения, руководствуясь собственными суждениями,
и,
возможно, если бы он знал больше, то ему удалось бы избежать многих
грубых
ошибок.
Философия
Ришелье и его политика всегда определялась его знанием мирских законов
и
Церкви, и прежде всего - знанием мира Пуату, мира его юности.
Произошла бы Фронда, если бы он продолжал оставаться у власти?
Размышлять об
этом бесполезно. Фронда отразила собой беспорядки и напряженные
отношения, накопившиеся
к тому моменту на всех уровнях общества. Они уже проявлялись в
периодически
возникавших сопротивлениях и бунтах, заговорах и восстаниях. В
принципе,
Франция была достаточно управляема, но это управление держалось в своей
основе
на политике компромиссов. Были ли это élu
(выборный),
пытающийся поднять налоги в деревне, или министр, пытающийся установить
институт этих élections (выборных)
в pays d'états (суверенных
провинциях),
или интендант, имеющий дело с генералом, или канцлер, ведущий дела с
парламентом:
кажется, весь процесс управления государством представлял собой
непрерывный
процесс торговли, периодически акцентируемый при помощи силы одной из
сторон
этого процесса. Гораздо раньше Фронды начался процесс, который смело
можно было
бы назвать административной гражданской войной. Это не было ново даже
уже во
времена Ришелье, но именно Ришелье поднял ставки в этой игре. Чем ниже
социальный уровень общества, тем более эффективно его запугивание, чем
выше –
тем выше вероятность достичь соглашения. Одной из причин успеха Ришелье
был его
опыт в использовании традиционных методов знати для создания
собственной clientèle
и состояния, он эффективно эксплуатировал ту систему, которую знал
очень
хорошо. Именно это же стало и основной причиной той враждебности,
которую он
пробудил.
И
вот здесь становится ясно, что пришло время немножко остановиться и
хотя бы
вкратце изложить общественное и политическое устройство самой большой
на тот
момент страны в Европе, жители которой, составляя шестую часть от
населения
Европы, были объединены между собой только по сути одной преданностью
молодому
суверену, положение которого, до некоторой степени, зависело от
решений,
принимаемых его первым министром.
Есть
один изначальный вопрос, ответ на который должно знать любое
правительство: это
размер населения. В 1707 году по свидетельству Вобана, которому нет
оснований
не доверять, население Франции (учитывая весь ее полный размер)
составляло 19 миллионов человек, что почти наверняка являлось снижением
после
более раннего пика в 21 миллион человек. Точно так же 19 миллионов
человек в
1643 году (цифра, выбранная как приблизительная оценка) за следующие
десять лет
войн и потрясений уменьшилось примерно на 2 миллиона. Причины для таких
значительных колебаний заключаются, прежде всего, в возникновении
периодически
высокой смертности, которая вполне объяснима в растущем обществе, не
имевшем
искусственных средств за контролем над рождаемостью и средней
продолжительности
жизни, оценивавшейся в 25 лет.
Границы населения определялись, прежде всего, границами производства,
которое
зависело от агротехники, транспортной инфраструктуры и торговли,
которые
понемногу совершенствовались с четырнадцатого столетия, а так же
«хронической
болезненностью» этого pre-scientific
age (преднаучного века). Последствия плохих урожаев, сопровождавшихся
голодом и эпидемиями,
которые были отмечены в период между 1648 и 1652 годами, так же
добавили свой
вклад в сокращение прироста населения Франции.
Вот
это то немногое, что действительно достоверно можно утверждать об этой
стране.
Поскольку повсюду наблюдалось бесконечное разнообразие в географии,
истории,
законе, языке и многих других аспектах массовой культуры этой страны,
столь же
большой, как и соседствовавшая с ней немецкая империя (которая, по
сути,
являлась свободной конфедерацией с большим количеством суверенитета), и
все еще
невообразимо далекой от того, чтобы быть единым унитарным государством
(*в этом
смысле мне очень нравится фраза, которую пишет Фернан Бродель во второй
половине 20 века в своем трехтомном исследовании:
«Иностранный
историк, изучавший Францию на рубеже XIX и XX веков, замечает, что она
рассыпается в руках исследователей на множество отдельных Франций,
готовых со
спокойной душой разъединиться и забыть друг о друге»).
'Нерегулярный и живописный прирост столетиями' - эта
фраза, заимствованная из описания Бэйгехота устройства Англии, очень
хорошо
отражает мозаику провинций, составлявших королевство; все они
прирастали вокруг
изначального королевского домена. Здесь мы можем обнаружить, как
феодальное
прошлое оказывало свое влияние на естественное развитие государства.
Поглощение
короной независимых феодальных владений, которые были преданы ей только
номинально, приобретение через браки или войны больших территорий,
таких как
герцогство Бретань,
вовсе не означало их ассимиляцию или отказ от прежних привязанностей.
Введение
института королевских чиновников зачастую давало весьма поверхностные
результаты в деле обеспечения верности и единства. И это был не просто
вопрос
размеров или расстояний, хотя они так же были важными факторами, и об
этом
знает любой, кто хоть раз путешествовал через Францию. При этом
англичане в
особенности должны избегать приравнивать французские провинции к
собственным
графствам. Если посмотреть на французские провинции, исключая их
центральные и
северные части, старый Иль-де-Франс и прилегающие к нему территории, то
их
можно сравнить разве что скорее с Уэльсом, Ирландией или Шотландией.
Если же
взять за основу общий язык, то можно подумать, что общей Франции просто
никогда
не существовало. Не смотря на общую государственную идею, скорее всего
только
малая часть населения осознавала себя единой Францией: чаще всего это
были те,
кто мог говорить, писать или понимать на литературном языке или
парижском
диалекте, который вообще в те времена заменял собой в науке, искусстве
и
государственном управлении латынь. Эти люди были политической нацией.
Остальные
использовали местные говоры или один из диалектов – северных
или южных: каждый
из которых состоял в большинстве своем или даже полностью из тех
терминов, которые
были востребованы в данных условиях жизни.
При
этом средиземноморская Франция разительно отличалась от всех остальных
провинций своей природой, языком, законами и традициями. Помимо
чрезвычайно
впечатляющих и изолированных горных краев, таких как предгорья Альп и
Пиренеи,
высокие холмы и плато, густые леса и труднодоступные долины
центрального
массива создали совершенно другой обособленный мир. В восточных
провинциях
законы и традиции, за которые крепко держалась знать, испытали на себе
сильное
влияние Германии и последствия слабого правления наследных герцогов
Бургундии.
Даже в Нормандии уступки такому городу как Руан
представляли собой реальную цену, уплаченную за контроль над ней.
Постепенный
рост размеров королевства оставил внутри себя поразительное наследство
в форме pays
d'états (суверенных
провинций), сохранявших свои привилегии и отличную от других систему
налогообложения. В других провинциях пошлины, собиравшиеся за
использование
дорог или рек только подчеркивали географическую фрагментацию: одна
страна,
много pays (территорий). Кроме моря, которое
не оставляло никаких сомнений, на территории Франции в те времена не
было
ничего похожего на современную границу, которая могла бы подсказать
путешественнику, что он оставил за собой или, наоборот, попал в эту
страну.
Восточная граница Франции представляла собой образец феодальных
владений, еще
не приниженных в своих амбициях наводящими порядок рационализаторскими
действиями государства. Не существовало никакой линии, про которую
можно было
бы ясно утверждать, что за ней – все французское.
Чрезвычайный беспорядок в
территориях и феодальная власть знати сильно беспокоили обоих
кардиналов,
стремившихся обеспечить твердую базу для королевской власти на этих
землях
разделенного суверенитета.
Эта
страна, обладая достаточно высокой концентрацией жителей, составлявшей
примерно
сорок человек на квадратный километр земли, обширными плодородными
землями и
достаточно благоприятным климатом, казалось, была способна обеспечивать
всем
необходимым свой народ. Действительность же была иной. Пейзаж был
безусловно
постоянным и крестьяне держались с яростной привязанностью за свои
общинные
участки. Большинство французских мужчин и женщин рождалось, жило и
умирало в той
же общине, в которой родилось; брошенных деревень было меньше, чем в
Англии.
Леса вырубались под поля и пастбища, болота осушались, некоторые земли
огораживались; в военное время местности опустошались; и все же общая
картина
была вполне уравновешенной. Все рынки были местными и находились в
пределах
приблизительно однодневной поездки на лошади или муле. Почти все
французы жили
в пределах досягаемости какого-нибудь города, поставляя на рынок
излишки своих
в значительной степени самостоятельных общин. Изоляция
очень многих индивидуальных, фактически
отдельных экономик, создавало многочисленные препятствия развитию
торговых
потоков.
Продолжались
работы по созданию судоходных рек. Ришелье очень интересовался
строительством
каналов, и в 1642 Сена была соединена с Луарой. Сюлли
в свое время достиг определенных успехов в строительстве дорог и
мостов, но все
еще было в порядке вещей слышать о торговцах, делающих крюки, чтобы
избежать
плохой дороги или района, наполненного бандитами, такого, как Перигор
(Périgord) во время расцвета печально известного Пьера
Грелети (Pierre
Grellety). Все еще было гораздо дешевле и безопасней передвигаться
морем, а не
по дорогам. Ришелье содействовал сокращению большого количества
дорожных и
речных потерь, но они все равно оставались препятствием, отнимавшим
время и
деньги. Тюк ткани находился в пути между Руаном и Лионом месяц, человек
мог
добраться из Парижа до Бордо за две недели. Поездка Мазарини в январе
1640
года, когда он за пять дней добрался от Лиона до Парижа, была
исключительной:
такая скорость была возможна, только если важный человек путешествовал,
не
экономя на лошадях. Привилегированные регионы создавались около
судоходных рек
и больших городов, потреблявших в больших количествах зерно, мясо,
фрукты,
овощи и вино; или там,
где существовали
мануфактуры, обычно текстильные, которые могли обеспечить
дополнительную
занятость. Крестьяне были особенно беззащитны в тех регионах, где не
существовало никакой альтернативной занятости, но даже среди
прядильщиков и
ткачей Бовизи (Beauvaisis),
пользующихся особенным спросом, резкий спад навлекал бедствия на
домашние
хозяйства, зачастую ставя их выживание в зависимость от собственного
куска
земли, обычно составлявшего дюжину акров, а иногда и меньше. Всегда у
крестьянина из-за непредусмотрительности, несчастного случая с ним или
его скотиной,
болезни, детей или других ртов, которых надо было кормить, существовал
риск
впасть в долги, и тогда путь заемщика вел, через продажу его земли к paupérisation (обнищанию) и ненадежным условиям
жизни
поденщика. Таким образом, в иерархии появлялась особая группа крестьян,
преимущественно среди bas peuple
(простонародья) (название, которым они описывались в официальных
документах),
безземельных, не способных заплатить налоги, чья рваная нищета в
голодные
времена пробуждала отвращение и страх.
Социальные
проявления бедности были куда более очевидны современникам, чем лежащие
в их
основе экономические тенденции: спад, чьи худшие последствия еще должны
были
быть испытаны во вторую половине столетия. Это не была только чисто
французская
проблема. Условия в соседней Кастилии были еще более ужасающими при
кажущемся
внешнем благополучии.
В 1640 –му году многие части Германии были разорены войной, в
которой движения
армий диктовались как приказами генералитета, так и стратегическими
соображениями. К тому времени приграничные области Франции так же
испытывали
влияние 'Misères de Guerre'
(бедствий
войны).
Но даже без разрушения войной рынков и торговых маршрутов снижение
притока
золота из Нового Света после 1600 года снизило денежную массу, что
привело к
общему снижению спроса.
Во Франции это стало очевидно приблизительно с 1630 года, когда
правительство
начало увеличивать налоги, чтобы иметь средства оплачивать свои
возраставшие
вооруженные силы.
Социальный
кризис, которым всегда отличаются времена значительных массовых
волнений, редко
порождался единственной или простой причиной. Налог на вино принес в
1630 году
бунты в Дижоне; даже слухи о новых налогах обладали столь же мощным
эффектом в
вызывании восстаний, как и давление старых (примером этому может
служить восстание
кроканов в 1636-37 гг); налог на соль был главным поводом в 1639 году
для
восстания босоногих в Нормандии. Расквартировывание войск (*на зимние
квартиры)
так же поощряло отчаявшихся людей к применению силы. Создалось
невыносимое
положение в неэластичных условиях аграрной экономики, которое оказалось
обусловлено установленным и сохраняющимся уровнем официальных запросов,
реализованных Ришелье до того, как капитал был накоплен через торговлю
и
производство. Бедой Ришелье, а следовательно, и Франции тоже,
проистекавшей из
политики высоких налогов и создания огромного количества должностей для
продажи, было то, что капитал был фактически отвлечен от эффективного
использования. Без значительных инвестиций со стороны государства
развитие
теперь зависело только от инициативы зажиточных крестьян и
землевладельцев, а
налоговые декларации этого периода свидетельствуют, что многие из них
были в
это время в затруднениях.
Развитие
крестьянского капитализма - процесс медленный и неравномерный. И все
же, почему
крупные землевладельцы оказались неспособны, как их английские коллеги,
посвятить себя усовершенствованию сельского хозяйства, и, как
следствие,
вернуться к занятию земледелием? Причин этому много – от
широко распространенной
системы métayage
(испольщины), арендного
земледелия до того факта, что дворяне получали за счет феодальных
налогов
стабильный доход. Основная часть этих налогов, вместе с десятиной, в
тех
провинциях, где они взыскивались с особой тщательностью,
приходилась на владельцев небольших земельных участков. Сыграл так же
свою роль
особый mentalités
(менталитет) нации,
которому был присущ консерватизм крестьян и презрение дворян к занятию
земледелием. Впрочем, безотносительно причин их вызвавших, последствия
были
очевидны. Сельскохозяйственная экономика, охватывавшая жизнь 85%
населения
страны, испытывала недостаток в ресурсах и способах увеличения
производства.
Урожайность, измеренная как соотношение посеянного зерна к сбору, в то
время
составляла примерно один к пяти. Эта безрадостная величина ясно
представляет ту
ловушку бедности, в которую был пойман среднестатистический
крестьянский
фермер. Поэтому неудивительно, почему хлеб рассматривался им с почти
религиозным уважением.
Из-за давления населения на ресурсы приходилось все интенсивнее
использовать
земли, включая пустоши и чахлые кустарники, которые в противном случае
можно
было бы использовать под пастбища. Соответственно, это означало, что
земли
имели тенденцию к истощению; снижение урожайности же только увеличивало
давление на неплодородную землю. А предпочтение монокультур хлебных
злаков в
результате приводило к периодическим недоеданиям.
Тяжелое
положение людей тревожило некоторых сеньоров, чиновников и священников,
которые
видели его в угнетенных общинах и в снижении общего сбора от арендных
плат,
пошлин и налогов. Эта бедность была банальностью политической риторики,
используемой, чтобы поддержать возражения королевской политике. Однако
худшие
годы голода и страданий от военных действий армий в гражданской войне
были еще
впереди, когда Омер Талон,
avocat
général (генеральный адвокат),
выступил с речью на заседании Парламента lit
de justice в январе 1648: 'В течение десяти лет была
разрушена страна,
крестьяне теперь спят на соломе, потому что их мебель, продана, чтобы
заплатить
налоги, поддерживающие роскошь в Париже; миллионы невинных людей
вынуждены
проводить свою жизнь, питаясь отрубями и овсом'. Министры, однако, тоже
были
информированы, хоть и в большей степени частными сообщениями сборщиков
налогов,
о том, что 'здесь есть только те, кто бесполезен для налогообложения' и
опасались возвращающегося кошмара крестьянских восстаний, которые могли
низвести все провинции до финансового бесплодия.
'История
Франции семнадцатого века', писал Тапье (Tapié), 'в
действительности является
историей сельского общества'. И все же, раздумывая о правлении,
начинавшемся с
настоятельного вопроса о том, как расширить и поддержать власть короны,
означает видеть жизненно важную роль городов. Город имеет
стратегическое
значение, он - ключ к обеспечению коммуникаций или к окружающей
сельской
местности. Военные операции во время Фронды все время вращаются вокруг
вопроса
контроля над городами. Даже у тех городов, которые не были важными
провинциальными столицами, такими как Руан, Тулуза или Дижон,
существовали внутри
свои привилегированные группы, доминирующие над городскими мирами
торговли,
недвижимости, финансов и закона. Как чиновники или торговцы, они искали
пути
для приложения своего капитала, чтобы он работал на них, как
землевладельцы,
через сбор арендной платы и феодальных пошлин, они доминировали над
сельским
населением;
как
сеньоры они имели тенденцию быть более эффективными, а следовательно,
критически относились к феодальному режиму, как адвокаты они
поддерживали любые
обращения, основанные на традиционном, хотя часто и ненаписанном праве.
То,
что эти городские группы процветали, не означал, что их сообщества в
целом были
благополучны. Городская автономия, поддержанная слабостью королевской
власти в
период Религиозных войн, уже потихоньку становилась вещью прошлого. С
самого
начала правления Генриха IV корона упорно и методично боролась с
привилегиями
городов. Основной целью был политический контроль, что становилось
особенно актуально
во времена восстаний; редко проблемой становилась религия, как это было
в
исключительном случае Ла-Рошели; но в основном в этой борьбе
доминировали
финансовые мотивы. Там, где затрагивались интересы государства, черта
между
правосудием, финансами и политикой становилась столь расплывчатой, что,
без
сомнения, была для современников зачастую практически неразличима. Чем
меньше
избиралось магистратов, тем более привлекательными становились
должности
короны. Такие города как Абевиль, Пуатье и Лимож подверглись
сокращениям среди
должностей магистрата: одна линия урезания полномочий городов была
основана на
методе выборов. Другая линия борьбы была финансовой: города пытались
ограничить
в правах устанавливать собственные налоги или же вводили в них новые
королевские налоги. В деревне самый богатый laboureurs
(землевладелец), узурпируя власть представительных собраний, часто
использовал
это, чтобы увеличить свое собственное авторитетное положение. В городе
же
тенденция к олигархии, когда богатые семьи объединяли свое положение,
поддерживалась министрами и в целом служила процессу абсолютизма. Здесь
можно
заметить двойной процесс: с одной стороны принуждение, сопровождаемое
угрозами
и наказаниями, ослабляло сопротивление, с другой стороны должности и
почет
привлекали честолюбцев на путь службы королю.
Но
была и другая сторона в очевидном политическом доминировании короны.
Чем больше
правительство полагалось на городскую элиту, тем больше возрастала
опасность,
что она попытается задать тон в отношениях. Как только корона
стремилась
эксплуатировать свой статус, поднимая налоги и создавая новые
должности, то
местные суды, особенно парламенты, становились центром сопротивления, к
которому в итоге могли примыкать не только чернь и крестьяне, но и
недовольные
дворяне. Возглавив Лангедокское восстание в 1631-32 годах, после
учреждения там élus,
Монморанси
и принц Орлеанский решали собственные политические задачи, но их бунт
был
опасен тем, что провинция тогда предоставила в самом начале поддержку
своему
губернатору. В связях через родство и другие деловые интересы
владельцев
крупных поместий или членов парламента можно увидеть то, что угрожало
стать для
них более важным, чем возможные выгоды от королевской службы. Впрочем,
потакание конкуренции между властными группировками, которое, как в Эксе,
часто давало правительству возможность разделять и завоевывать. Тем не
менее, в
1648 году Мазарини обнаружил, что существуют пределы лояльности даже
самых
высоких законодательных чиновников, которые определялись чертой, за
которой они
начинали ощущать, что под угрозой становятся их собственные права и их
роль
опекунов прав других.
Приблизительно семь процентов французов жили в
городах: приблизительно
сорок из них обладали населением в более чем десять тысяч человек.
История
одного города, столицы провинции, которая принадлежала французской
короне в
течение четырехсот лет, столицы закона и церкви, показывает гораздо
больше об
опыте 'ползучего абсолютизма' и менталитете французов перед Фрондой,
чем любое
утверждение о стране в целом. Случай Анже, города с население в 30 000
человек,
является весьма показательным. Один из путешественников восемнадцатого
столетия
говорил, что 'есть немного городов во французских провинциях, которые
предоставляют любопытному человеку большое поле для вопросов'.
Помимо интереса англичанина к прошлому своих Плантагенетов, возможно,
что один
из этих вопросов включал в себя и изучение условий, которые
способствовали
становлению этого города среди живописных болот. Традиционно Анже был
небольшой
республикой, обладая своим собственным правительством, ассамблеей
представителей округов и муниципальными чиновниками, которые со
временем, в
силу своих должностей, превратились в наследственных дворян.
Муниципальные
власти формировали городскую милицию, капитаном которой был мэр, и
взимали
муниципальные налоги. Граждане большей частью были освобождены от
уплаты тальи,
габели и содержания войск на квартире. После 1600 года столкновения по
правам и
интересам граждан создали в городе неблагоприятную окружающую среду.
Наиболее
привилегированные граждане, местная олигархия, подверглись нападениям
за то,
что предлагали новые королевские налоги и брали себе процент от их
сбора.
Лидеры народной партии были людьми, не принадлежащими к закрытому кругу
королевских чиновников, а также торговцев, защищенных своей личной
корпорацией.
В основном их поддержали ремесленники, состоявшие в двадцати семи
гильдиях;
именно на них упала основная тяжесть налогов на потребление. В Анже
также было
много церковных зданий помимо главного собора и его шестнадцати
приходов.
Духовенство вело продолжительные споры об их юрисдикции с магистратом,
так же,
как и университет. А сам город лежал на пути основных
противоборствующих сил во
время гражданских войн в 1614-20 гг и вынужден был в то время трижды
заплатить
за себя выкуп: это была вина магистрата. Поскольку долги увеличивались,
а
возмущение нарастало, магистрат вынужден был обратиться к короне за
поддержкой.
Ришелье
вошел во вкус ситуации. После 1635 года, вместе с мэром города, который
в
действительности был королевским агентом, он игнорировал финансовую
неприкосновенность Анже, ввел новые налоги, увеличил старые; сделав
неуместной
городскую плату за его остающиеся привилегии. Как в 1633 году, когда
муниципалитет в Бурже (Bourges) был наказан за то, что не приобрел
новую
должность контролера общественных средств, конфискацией всех его
остающихся
фондов, задолженность города привела к наложению на него взыскания.
Помимо
прочего на Анже было возложено бремя охранять и кормить военнопленных.
Главной
задачей комиссаров Ришелье было раздобыть деньги настолько быстро,
насколько
это возможно. Таким образом, основная тяжесть податей была возложена на
наиболее богатых граждан. Магистрат, составленный в основном из
королевских
чиновников, был в значительной степени предан короне, так же он
останется ей
лоялен и во времена Фронды. Остальные же боролись против все более и
более
безжалостной власти: периодически вспыхивали бунты и
появлялись случаи нападения на сборщиков
налогов; немногие могли заплатить свои налоги: в окрестностях были
расквартированы войска, которые рыскали по местности в поисках своей
поживы. В
таких местах как Анже происходила репетиция Фронды: когда она началась,
народ поддержал
мятежников.
Интенданты
правительства, более грубо посягавшие во время войны на права и
имущество
населения, сильно осложняли жизнь местных высших сановников. В
результате
возникали многочисленные городские восстания, зачастую касавшиеся
косвенных
налогов или принудительных ссуд. Очень часто большую роль играли слухи.
В июне
1635 года в Ажене произошло еще одно мощное и кровавое восстание, по
поводу которого
совет города сообщал: 'В воскресенье, 17-го числа месяца в 9 утра бунт
и
народный мятеж начались со слухов о габели...'.
Масса народа, собравшись вместе, скандировала: 'мы должны убить
сборщиков
габели' и 'да здравствует король без габели'. В этой ситуации, когда
многие
видные граждане серьезно пострадали, пытаясь остановить толпу, власти
оказались
достаточно оперативны, чтобы объединиться. Парламент Тулузы осудил
действия
'некоторых неизвестных людей, переодетых путешественниками и
паломниками, которые
распространяли ложные сообщения о габели и пошлинах, которые якобы
нужно было
теперь платить за детей, которые только что родились и даже за тех, кто
только
что умер'. Парламент уверял людей, что 'Его Величество в своем
отеческом
великодушии желает только облегчения для своих подданных... У него нет
никакого
желания устанавливать новую габель или иные налоги, но он просто желает
получить помощь, которая абсолютно необходима, чтобы выдержать расходы,
связанные с содержанием нескольких армий за границей.' Всего этого,
объединенного с угрозой собственности, всегда исходящей от любого
бунта,
оказалось достаточно, чтобы удержать большинство граждан от мятежа.
Обычно
инициативу в выступлениях против новых налогов брали на себя группы
ремесленников, таких как бондари или кожевенники. Их действия, однако,
могли
быть полезны как первое движение в процессе взаимной торговли: местные
лидеры
стремились гарантировать, наряду с прощениями, сокращение или отмену
обидных
налогов. Они либо могли утверждать, что подавили бунт силами своей
собственной
милиции, либо отмежевывались от народных требований. Королевские агенты
отвечали на это скептически, попутно отмечая, насколько был полезен для
наиболее богатых классов этот вид 'управляемого насилия'; как и то, что
их
главной заботой было обезопасить городские ворота от крестьянских банд.
Городские
восстания для короны вообще несли не столько угрозу, сколько
беспокойство.
Однако в более широком контексте они были достаточно серьезными
событиями,
поскольку порождали дух недовольства королевской властью, которая
принимала в
них свою форму в виде интендантов и сборщиков налогов, назойливых,
запугивающих
и высокомерных к местной щепетильности. Все это вместе устанавливало
предел для
тех средств, которые могли быть получены от городов, требуя в итоге еще
большего
сосредоточения на талье и увеличении бремени на крестьянах. Их
восстания
производят глубокое впечатление как свидетельство недовольства людей.
Они
представляют собой вторую обрамляющую панель триптиха беспорядочной
Франции, ярким
центром которой стала Фронда. И подобно этим панелям, Фронда может быть
разобрана и изучена как ряд эпизодов, каждый из которых имел свои
собственные
причины, принципы и страсти. Но, как и в концепции художника, в ней
существует
и органическое единство. Фронда был продуктом стечения определенных
обстоятельств и действий, которые не могут быть правильно поняты
отдельно от
того общества, в котором существовали ее главные герои. Это чувствуется
и в
других ее формах: на каждом уровне общества, неистовом протесте и
открытом
восстании.
В
один момент в 1636-37 годах четверть Франции от Луары до Гаронны, была
затронута восстаниями кроканов. Большая часть территории мятежников
оказалась
отдалена и недоступна: леса и холмы сделали ее идеальным ландшафтом для
сопротивления,
который снова был с эффективно использован в 1940-45 годах в борьбе
против
другого вида 'иностранцев'. В 1636 году для маленького городского
чиновника, hobereau (мелкого
помещика) или
крестьянина таким "иностранцем" был интендант, traitant
(откупщик),
или любой другой из распространяющейся орды чиновников,
занимающихся 'финансовым терроризмом'.
А позади них всех стояла зловещая фигура, в которой все эти люди,
доверяя диссидентской
пропаганде и распространяющимся
слухам, усматривали главного угнетателя и извратителя правосудия.
Мазарини
впоследствии унаследовал и имидж Ришелье и, как следствие, ненависть к
нему. А
поскольку королевские войска были в основном сконцентрированы на
границах,
сдерживая вторжение в имперских и испанских войск, то оказалось
невозможно
быстро ответить на собирание крестьянства Сентожа (Saintonge) и Ангумуа
(Angoumois). Когда их пестрые силы были собраны, среди них можно было
заметить
как дезертиров, так и старых солдат, которые шли, чтобы показать
пример; у
многих были аркебузы и пики; они маршировали в строю, сопровождаемые
дудочками
и скрипками. Ла Форс
писал Сегье, предупреждая что 'в большом хаосе этого canaille
(сброда) есть опасный вид порядка'. Вероятно, их
количество могло доходить до 30 000 вооруженных людей. Иногда возникали
локальные акты насилия, часть из них без сомнения относилась к
урегулированию
старых долгов. Контроль внутри движения был слабый, но оно не сразу
ударилось в
бесцельные набеги. Города оказались блокированы; в соседние области
были посланы
эмиссары и вслед за этим последовали серьезные восстания в Пуату,
Перигоре и
Керси.
В
восстание оказалось вовлечено несколько дворян, особенно из рода Ла Мот
Ла Форе
(La Mothe la Forêt),
но не существует признаков никакого дружеского соглашения между
крестьянами и
привилегированными классами, хотя многие из отдельных господ могли
сочувствовать своим людям, или же сожалеть о собственных несчастьях:
падающих
доходах, когда censitaires
(арендаторы) были слишком бедны, чтобы платить положенную dues (пошлину) сеньору или об ужасном arrière-ban
(призыв дворян на военную службу), восстановленном Ришелье в 1635 году.
Но ни
один из грандов не сделал ни движения, чтобы оказать помощь повстанцам.
Это не
было ошибочной солидарностью знати перед лицом народных восстаний. Это
была
общая неприязнь к новому политическому порядку, в котором власть
принадлежала
всесильному министру, поддерживаемому расширяющейся сетью créatures. Возможно, к этому
примешивалась понимание того, что
крестьянство должно некоторой степени быть зажиточным, а не бедным. Ла
Форс
выражал свою тревогу по поводу их нищеты, а Ла Валетт отказался
преследовать их
после поражения с суровостью, используемой против мятежников.
Также нет никаких признаков антагонизма среди мятежников в том, кого
они
привыкли видеть как естественных лидеров в своих сообществах. Был
небольшой
грабеж châteaux (шато),
но не обида
на seigneurial dues (сеньоральная
пошлина) была этому причиной. Политический тон повстанцев также был
лояльным и
консервативным - не выдвигались требования новых конституционных
гарантий, типа
созыва постоянных Генеральных Штатов.
Тут свою роль играли ностальгические воспоминания о воображаемом
Золотом Веке,
такие мощные в идиоме политического сопротивления: в соответствии с
ними король
должен был жить как прежде, обладая своими традиционными правами и тем
объемом
от тальи, который был достаточен для его отца.
В
некоторых местах положения по четкому распределению тальи составлялись
в
присутствии curé (кюре).
Некоторые из
этих curé были
радикальны. Должно ли
это быть приписано только их враждебности по отношению к богатым или
отсутствующим епископам и аббатам, временами экспроприирующих десятину,
и часто
отдаленных от жизни сельского духовенства? Или же это работал 'фактор
Марийяка', когда враждебность dévôt
к
Ришелье и его союзам с протестантами, проникала от двора вниз, в
церковные
приходы? Мобилизованные Гонди, они стали важной силой фрондирующего
Парижа. Curé имел
хорошую позицию, если желал
стать лидером своей доверчивой паствы. Некоторые из них оказывались
главами
деревенских контингентов. В Нормандии босоногие управлялись советом
четырех
священников. Дополнительный интерес к составу мятежников представляет
не только
соучастие между руководителями и повстанцами, но также то, что
мелкопоместное
дворянство оказало им защиту. Восстание ограничилось одной частью
Нормандии и
не вышло за ее пределы, однако суровость, с которой правительство
подавило это
восстание, а так же примененные репрессии предполагают, что оно
рассматривало
его как чрезвычайно опасное. Увидеть причины этому означает получить в
дальнейшем понимание условий во Франции, сложившиеся перед Фрондой.
Нормандия
незадолго до этого испытала серьезное нашествие чумы – в
некоторых деревнях она
унесла до двух третей жителей. Земли стояли невспаханные и незасеянные,
торговля сократилась, цены выросли, а налоговые чиновники со своей
несовершенной системой оценки не спешили замечать изменившиеся местные
условия.
Кроме этого, в провинции были расквартированы войска и это увеличивало
налоговое давление: каждый приход был обязан содержать трех или четырех
солдат.
Держателям должностей отказывали в выплате доходов, а некоторые
должности были
обесценены созданием новых. В разное время несчастья, подобные этим,
происходили в разных провинциях. Но в Нормандии они объединились все
вместе,
что поставило провинцию на грань социального взрыва. Штаты Нормандии
были
анахронизмом и не созывались с 1635 года, поэтому у парламента были все
основания полагать себя ответственным за благосостояние людей. Поэтому
он не
спешил регистрировать новые налоговые указы и был готов поддержать
возмущение торговцев
и ремесленников, выступавших против новых налогов: законодатели
занимались
популизмом, тогда как всю работу за них делали дубильщики и бондари.
Для
правительства такое стечение обстоятельств было критическим: все слои
общества
были на взводе, отсутствовал только повод для восстания. Им стал слух:
якобы
Нижняя Нормандия должна была стать областью большой габели и платить
полную
норму соленого налога, как и все остальные части провинции. Несчастного
чиновника, который на деле не имел никакого отношения к соли, пришедшая
в
ярость толпа линчевала в июне в базарный день в Авранше. Так, знакомым
смешением трагического, нелепого, мужественного и второстепенного
началось
восстание, которое взяло своим названием наименование рабочих солевых
промыслов, которые работали босиком.
Существуют
определенные признаки, указывающее на наличие интеллектуального
руководства
восстанием. Однако при этом оно неизбежно было неоднородным и очень
зависело от
местных обстоятельств и обычаев: так в élection
(финансово-податном округе) Авранше взбунтовались только двадцать семь
из
девяносто семь приходов. Однако именно в Авранше сформировалось подобие
армии,
которой руководили Жан Баптист и 'Жак Босоногий' - анонимное
обозначение
коллектива лидеров. Провинция долго оставалась неудобной частью в
пестрой
мозаике государства. Здесь большую силу до сих пор имела Лига.
Виконт де Кутанс (de Coûtances), впоследствии обвиненный в
распространении
ложных слухов, был сыном старого члена Лиги. Когда лидеры восстания
взывали за
поддержкой, они взывали к лояльности к patrie
(родине): но не к Франции как таковой, а к Нормандии. Были все посылки
к
созданию активного автономного движения: Фронда в последствии показала,
какую
угрозу может из себя представлять такое движение, если в его главе
встает
честолюбивый магнат, который при этом является так же губернатором. Тем
временем целью этого восстания были финансовые чиновники –
некоторые из них
были убиты. Мелкие дворяне отправляли своих людей на охоту за
человеческой
добычей: «мертвыми сборщикам габели». Но магнаты
восстание не поддержали: среди
восставших не оказалось ни знатных дворян, ни видного духовенства, даже
зажиточных крестьян среди них было мало. Это оказалось восстание
преимущественно menu peuple
(простонародья),
включавшего в себя небольшое количество обиженных и лишенных,
выступивших не
без согласия на то парламентариев. И именно это предоставило
правительству
идеальный шанс расправиться с восстанием с позиции силы. Обладая
небольшой, но
мобильной армией, Гассьон подавил восстание уже в конце того же года.
Канцлер
Сегье тогда прибыл лично, со всей своей свитой и великолепием, чтобы
представить оскорбленного короля Франции. Парламент Руана был распущен,
а казни
были многочисленными; некоторые мятежники были колесованы, а у тех, кто
успел
сбежать, уничтожили имущество.
Ришелье нанес удар по слабой точке сопротивления
абсолютизму. Никакое народное восстание не могло преуспеть в своем деле
без
помощи городов, где местные власти чрезвычайно ненавидели чиновничью
плутократию вместе с ее парижскими покровителями, зная, что они
отбирают их
должности в пользу короля. Корона напрягала взаимные отношения с ними
до
предела, но пока она обладала достаточным количеством войск, чиновники
оставались на ее стороне. И все же достаточно ясно, что к 1643 году
правительство оказалось перед кризисом власти, более серьезным, чем на
это мог
бы указать такой несущественный заговор Важных. Жалкие призывы кроканов
и
убийственный гнев «босоногих» не могли решить ее
судьбу: безотносительно того,
что случалось в провинциях Франции, кризис власти, как всегда, был
предрешен в
ее центре, в Париже.
|