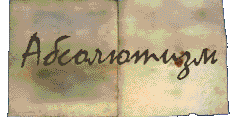
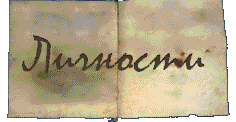
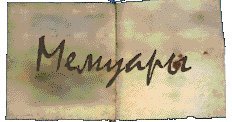
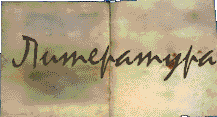

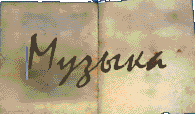
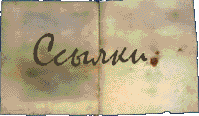
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ II.
СЛУЖБА ФРАНЦИИ
.
«Я
присоединился к кардиналу инстинктивно, даже
прежде, чем понял из опыта, что он великий человек»
Жюль Мазарен
.
7.
Кардинал Мазарен
.
«Для
джентльмена (galant
homme)
любая страна – родина» (*в оригинале – Al gallant
uomo ogni paese
e patria
– фраза из письма Уолтеру Монтегю) Так Мазарини писал в 1637
году о
том состоянии души, которое всегда поддерживало его во множестве
путешествий.
Он даже начал считать себя французом «по признательности и
темпераменту». На
протяжении всего прошлого римского лета он был рад служить любым
способом,
только чтобы получить возможность уехать. В июне 1639 он писал королю:
'я не
имею иного долга или бóльшего желания в этом мире, чем быть
истинным слугой с
огромной преданностью и уважением, поскольку совершенство Вашего
Величества
дает мне восторг существования'. Стремясь понравиться, он работал над
планами
театра, спроектированного для Ришелье, но скоро погрузился в политику.
Чтобы
ускорить процесс примирения между своими старыми и новыми патронами он
настаивал
на отзыве Д’Эстре из Рима. Как будто проверяя преданность
Мазарини, Ришелье
сначала назначил его посланником на конгресс в Кельне, но так и не
отправил его
туда, предписав ему вместо этого на Пасху прибыть ко двору в Амьен,
чтобы взять
на себя поддержание связей с армией, осаждавшей тогда Аррас.
Испанцы защищали его с таким упорством, которое совсем не давало
оснований
полагать, что они деморализованы. Если бы испанцы уже тогда пришли к
состоянию
необратимого упадка, то история следующих двух десятилетий, как и
история
самого Мазарини, была бы совершенно другой. Город продержался до
августа.
На
юге же французские войска терпели неудачи. В августе 1637 года испанцы
осадили
Лекат (Leucate), находившийся между Нарбонной и Перпиньяном.
Шомбер, в конечном счете,
снял осаду, проведя смелую ночную атаку на испанские позиции. Однако
уже в
следующем году его преемники (*Шомбер к тому времени уже, увы, погиб)
Конде
и Ла Валетт так и не смогли развить полученное им преимущество. После
длительной осады в сентябре 1638 года они наконец-то атаковали
Фуэнтаррабию, но
их недисциплинированные войска сначала получили отпор, а затем
вынуждены были в
панике отступить. Следующий эпизод выявляет очень многое: Ла Валетт
отказался
разделить командование армией с архиепископом де Сурди,
а затем, когда его войска были введены в помощь архиепископу, не
поддержал его
в нападении. Справедливо опасаясь гнева Ришелье, он сбежал в Англию,
чтобы быть
вне его досягаемости. Этот эпизод освещает подробности отношений внутри
знатных
главнокомандующих, которые расценивали войну как свой частный спорт.
Это была
только одна из больших проблем, сопровождавших процесс
«абсолютизма».
Ресурсы
для войны добывались тяжело; они были слишком драгоценны, чтобы
растрачивать их
попусту; а для этого, по большому счету, управленческий аппарат короны
обязан
был быть сильным. Интересы государства на фронте представляли
интенданты армии
(intendants
de
l'armée), подчинявшиеся непосредственно
военному министру. Лучшие из них, такие как Мишель Ле Телье, знали
жесткие
методы успешного управления мобилизованными ресурсами и приведения их в
более
эффективное состояние. Однако революция в этом направлении не была
возможна до
тех пор, пока идеи абсолютизма не были заявлены в полном объеме. В
результате, Ришелье
мог надеяться только на то, что храбрость и предприимчивость
французских войск смогут
восполнить их хроническую недисциплинированность. Тем временем, он мог
находить
утешение в успехах своего племянника Понкурлэ (Pontcourlay), успешно
действовавшего с галерным флотом по его инструкции под Генуей.
Можно
со значительной долей вероятности утверждать, что успеху честолюбивых
планов
Ришелье в гораздо большей степени содействовали ошибки испанцев, нежели
компетентность и подготовленность французских войск. И все же картина,
переданная мемуарами Анри де Кампьона,
молодого дворянина, служившего почти непрерывно во всех этих кампаниях,
показывает
нам находчивость и героизм французских войск, стремительные атаки и
тяжелые
потери, особенно среди молодых дворян. Он хвалит опытность испанского
генерала,
младшего Спинолу, так же, как и своего собственного главнокомандующего
Шомбера.
Даже если сделать скидку на французские тыловые проблемы, то это дает
нам еще
большее впечатление об испанской стойкости перед лицом враждебности
Ришелье;
тем более ценной, поскольку в Испании на тот момент уже начали
наблюдаться
экономические проблемы, которые особенно обострились после восстания в
1640 (*в
Каталонии). Восстание «босоногих» встревожило всех,
хотя оно и ограничилось
только одной провинцией и не эксплуатировалось диссидентами среди
знати, но в
итоге оно так и не стало серьезным сепаратистским движением, которое
дало бы
возможность врагу открыть против французов второй фронт. Восстание же в
Каталонии обладало другими особенностями, поскольку оно, сопровождаемое
таким
же сепаратизмом в Португалии, в итоге стало главным предварительным
условием
поражения Испании в этой войне, а поэтому очень важным для карьеры
Мазарини.
Его дипломатические усилия и результаты могут быть должным образом
оценены
только в свете этого изменения в балансе власти.
Восстание
в Каталонии было прямым следствием продолжающейся войны и
целеустремленной
политики Оливареса изыскать средства для ее финансирования. Его
попыткам
достигнуть структурных и военных целей противостояли многократные
кризисы,
которые в итоге привели к его падению. После того, как Конде захватил
Сальс (Salses),
находившийся на границе с Руссильоном, Спинола блокировал его и, после
значительных усилий, преуспел в том, чтобы его отбить обратно (январь
1640).
Каталонцы очень долго отказывались помогать расходам империи; их
ненавидели
кастильцы, которым приходилось нести основную тяжесть военной
повинности даже
после заключения Союза оружия.
В 1639 году эта провинция была выбрана Оливаресом как главный фронт: он
надеялся, что тогда каталонцы увидят смысл в платеже за собственную
безопасность. Но для многих из каталонцев (зачастую поощряемых агентами
Ришелье) именно Кастилия, а вовсе не Франция, была основным врагом.
Поэтому
размещение войск в Каталонии привело к тому, что крестьяне подняли
оружие и
спровоцировали всеобщее восстание. В сентябре 1640 года депутация (diputacio) от
Каталонии
попросила французской помощи: в соответствии с последовавшим за этим
соглашением
французским судам было предоставлено право использовать каталонские
порты, а
Каталония оплатила предоставление регулярных войск в количестве 3 000
человек.
Здесь Ришелье мог позволить себе быть невеликодушным, ибо восстание
обладало
своей собственной, независимой от французов движущей силой. По этому
поводу
Оливарес даже мрачно пошутил, что у Испании теперь появилась другая
Голландия.
Ришелье
не испытывал никакой любви к этим мятежникам. Французские
провинции, особенно те, которые находились на юге, в любой момент могли
последовать за каталонским прецедентом, чтобы не платить налоги. Когда,
однако,
республика Каталонии, так уверенно объявленная в январе 1641, рухнула
из-за
анархии, у него не оставалось иной альтернативы, кроме как послать туда
французских чиновников, чтобы управлять военными действиями и
устанавливать
налоги. Люди очень скоро устали от таких защитников, и прежде, чем
провинция
была подчинена полностью, восстание прекратило быть полезным французам,
обернувшись теперь уже против них, и Франции пришлось уменьшить там
свое
военное присутствие. Это восстание стало, по сути, интермедией, второй
по своей
важности после Португалии, когда в декабре 1640 года дворец Лиссабона
штурмовала разъяренная толпа, кричавшая «Король Хуан IV».
Последовавшая затем
война по своей длительности пережила Мазарини.
В
некотором смысле Португалия для Мазарини находилась на краю Европы; но
до определенной
степени ее проблемы были центральными. Дворяне, которые поддерживали
герцога
Браганца
в его попытках возвратить трон, потерянный его предками за шестьдесят
лет до
этого, имели много общего со своими беспокойными собратьями в
Каталонии,
Швеции, Англии, и, конечно же, Франции.
Их объединяли, прежде всего, национальная гордость, окрашенная в
феодальный дух
и материальные обиды. Упадок в ней, в какой-то мере, был неизбежен, ибо
причастность к честолюбивым операциям кастильского империализма только
способствовала этому процессу. Португальская антипатия к Кастилии не
была
чем-то новым: эти государства существовали между собой также, как
Англия и
Шотландия, и их граница была всегда областью споров и насилия. В итоге
ксенофобия там (*в Португалии) трансформировалась в еще более ядовитый
антисемитизм.
Провал
экспедиции Пернамбуко в деле возврата Бразилии стало тем бедствием,
которое
сконцентрировало умы португальцев на практических проблемах организации
coup d'Etât (государственного переворота). Их гордость и
чувство национальной
идентификации гарантировали, что он будет поддержан с фанатическим
пылом. Перед
заключительным поражением при Вилла Викоза (Villa Viciosa) в 1665 году,
прелюдией к их официальной независимости три года спустя, португальцы,
которым
помогали в свою очередь Голландия, Франция и Англия, вели себя как
суверенное
государство. А испанцы, тем временем, были завязаны на другую
изнурительную
войну. В действительности можно сказать, что битва при Рокруа (Rocroy)
была выиграна на
полях Иберии.
Каталония,
Португалия и наконец, Савойя: все это было той оставшейся областью
южного края
большого европейского конфликта, которая способствовала решающему
изменению
дипломатического баланса, через создание невыносимой для Испании
стоимости
усилий удерживать или возвращать утраченное в этих провинциях. Именно в
Савойе
знания и связи Мазарини определили самое значительное его использование
новым
патроном. Так, в сентябре 1640 года Ришелье приказал отбыть ему в
Турин, чтобы
урегулировать дела в Савойе, приходившие в окончательный беспорядок.
Это дело
было чрезвычайно деликатным и в то же время требовало от слуги первого
министра
и короля достаточно много энергии. Мазарини испытывали. 'Colmardo
должен помнить, что возможности, больше чем его [Ришелье], содержат
предупреждение только об исполнении и презрение к тем, у кого больше
способностей для воздушных предложений и бесполезной беседы, чем для
полезных
действий'. Таким образом, Мазарини послали, чтобы привести в исполнение
наказание, которое, как решил Ришелье, граф Филипп заслужил своим
неумелым
руководством. Пытаясь снискать расположение Пьемонта, он отказался
передать
французской армии альпийские форты, которую послали, чтобы освободить
Савойю от
испанского вторжения предыдущим летом. Результатом стало падение Турина
(июль
1640) и герцогиня смогла спастись в значительной степени только
благодаря
заботам Филиппа. За несколько дней до того, как Мазарини прибыл в
Турин, показывая
всю безотлагательность дела и проделав путь от Парижа до Савойи всего
за четыре
дня, Аркур возвратил Турин герцогине. Мазарини сразу принял все меры
для того,
чтобы Кристина смогла вернуться в свою столицу. В последний день 1640
года
Филипп был арестован и отправлен на покаяние во французскую тюрьму. Он
оставался там до самой смерти Ришелье, прежде, чем более сочувствующий
ему
Мазарини смог добиться его освобождения. Когда же Филипп вернулся, то
обнаружил, что Кристина нашла себе уже другого любовника, но она
сделала его
командующим своей армии, а позднее - министром финансов. Тем временем,
в мае
1641, Мазарини вернулся в Париж, уверенный, что режим Кристины выживет,
хотя
соглашение, которое гарантировало бы это, и по которому города,
оккупированные
Францией и Испанией, были возвращены Савойе, не было подписано еще до
1642
года.
Во
время своего пребывания в Савойе в течение девяти месяцев Мазарини
иногда
раздражался из-за своего отсутствия при дворе в то время, когда Ришелье
был
болен, а король имел не самое лучшее здоровье. Дворцовые интриги
относительно
будущего имели теперь гораздо больше тонкостей, чем обычно. Но в
савойском
предприятии была и приятная роль для него: женщина, компания которой
ему
нравилась, элементы заговора, когда удачные ходы требовали смелости и
изящества, а все вместе это было шансом усилить впечатление на
патронов, что он
им совершенно лоялен. Нетерпеливый к результатам и беспокоящийся за
будущее,
Ришелье, тем не менее, имел повод ценить таланты своего
protégé (протеже) и
декларируемую им преданность. В 1641 году произошел еще один эпизод в
последовательной череде заговоров, которые составляют значительную
часть
внутренней истории Франции в это время. Его происхождение с очередной
раз было
связано с Лотарингским герцогством. По соглашению, в соответствии с
которым
герцог Карл получил обратно свое герцогство взамен принятия статуса
вассала, он
уступал Франции Клермон (Clermont) и несколько других сильных городов,
соглашался на временное присутствие в своей столице Нанси (Nancy)
французского
гарнизона и обещал, что отныне он обязуется не иметь ни каких отношений
с
врагами Франции. Казалось, что Ришелье предусмотрел все, что было
возможно от
него ожидать. Но герцог, в надежде на скорую смерть своего врага, и
одновременно предоставив своему юристу частное отрицание своих уступок
на том
основании, что они были сделаны под принуждением, воспользовался первой
же
возможностью, чтобы изменить своему слову.
Это
произошло в очередной всплеск заговоров знати, стимулируемых событиями
в
Савойе. Объединение сил Лотарингии и Шампани, где Суассон
был губернатором, Седана и испанских Нидерландов, выглядело достаточно
опасным.
А стало выглядеть еще хуже, когда к Суассону и Гизу присоединился
Томà,
савойский шурин и cо-лидер мятежников, и они выиграли беспорядочное
сражение
против Шатильона (Châtillon) при Марфэ (Marfée) (6
июля 1641). Тогда же Суассон
убил себя выстрелом в голову. Сообщали, что он был небрежен, поднимая
забрало
заряженным пистолетом. Его смерти оказалось достаточно, чтобы остудить
пыл
оставшихся мятежников. Карл Лотарингский вернулся к своей роли
имперского
генерала. Бульон
заключил мир с короной и уступил свое княжество со столицей в Седане.
Он вел
переговоры в течение месяца, а в сентябре 1642 года Мазарини лично от
имени
короля конфисковал у него Седан. В 1651 году, после очередного
проступка
герцога, Мазарини снова заключил с ним сделку, которая была
дорогостоящей для
короны, но была крайне необходима ей в тяжелых обстоятельствах того
года,
поскольку обеспечила короне Седан в обмен на другие земли в пределах
Франции.
Первый эпизод в этой саге предоставил Мазарини предвкушение будущих
конфликтов
и дал урок по стратегическим интересам принявшей его страны.
Седан
был жизненно важным пунктом в геополитике Ришелье. Он охранял мост
через Мезу
(Meuse) и был центром, от которого шли дороги на Париж и Дижон, а также
в
Германию, в Ахен, Страсбург и Люксембург. Являясь номинально
подфеодальным
владением Франции, он находился под управлением семьи Ла Тур Д'Овернь
(La Tour
d'Auvergne), которой в течение многих столетий принадлежало собственное
графство Кёрси (Quercy). Эта семья принадлежала к гугенотам.
Представители этой семьи так же владели
епископством Льежа (Liège) и на этом основании являлись
принцами Империи и были
фактически независимыми суверенами. Старший глава семьи, Буйон, к тому
времени
был уже опытным мятежником и очень скоро станет фрондером, тогда как у
его
младшего брата Тюренна
очень рано обнаружился военный талант, который Ришелье всеми силами
стремился
поставить на службу короне. Природа феодализма, находившегося в своей
последней
фазе, мешала королевской власти; угроза государственной безопасности,
выраженная в магнатах, которым принадлежали наибольшие части мозаичных
владений, составлявших восточную границу Франции, являвшейся не столько
линией,
сколько зоной, обязанной своим существованием немного логике и в
основном -
истории, была ярко продемонстрирована на примере этой семьи, слишком
маленькой
в средствах, чтобы создать независимое государство, даже в изменчивых
условиях
немецкой войны, но слишком значительной, чтобы оставаться простыми
подданными
короля. Они могли эксплуатировать свой неоднозначный статус, но тогда
рисковали
утрачивать выгоды, которые получали на службе самого великого лорда из
всех -
короля Франции. Их недовольство возросло, когда они увидели, что власть
короля,
по их мнению, была оккупирована главой его правительства.
Если
существовала необходимость продемонстрировать власть суверена,
оправдывая деспотичные
действия, то случай с Седаном являлся для этого подходящим. И все же
маловероятно, чтобы Мазарини глубоко размышлял о том, насколько это
важно -
обеспечить безопасность границ или лояльность подданных, поскольку этим
занимался Ришелье. В сентябре 1641 он (*Мазарини) писал одному из своих
римских
друзей: 'у меня есть серьезное основание думать, что в конце месяца я
буду на
пути в Мюнстер'. Анри Арно
в октябре отмечал, что Ришелье 'каждый день работал над инструкциями
для
мирного посольства. Мазарини должен был взять с собой свиту из более
чем
восьмидесяти человек'. Римский папа больше не нуждался ни в каких
дальнейших
убеждениях: Мазарини заработал шляпу кардинала. Радостная новость дошла
до него
30 декабря 1641 года и он поспешил к королю, чтобы поблагодарить его за
это, а
заодно блеснуть своей известностью в глазах beau monde (светского общества). В январе 1642 года он получил рекомендации
относительно переговоров и
не тешил себя никакими иллюзиями относительно трудности попыток даже
начать
переговоры о мире. Упрямо придерживающийся своих высоких понятий о
королевских
правах, Луи XIII не желал оставлять успешные завоевания: и
действительно, он теперь
ждал гораздо большего с того момента, как перед французскими войсками
пал
Перпиньян, столица только что завоеванной испанской провинции
Руссильон.
Мазарини получил приказ сопровождать двор и короля в штаб-квартиру этой
операции. Но к тому моменту у него появилась еще одна неотложная
проблема.
Смерть
Урбана VIII
казалось, была неизбежна и предполагалось, что Мазарини, как лидер
французской
фракции, должен к выборам нового папы подготовить подходящего кандидата
от
Франции. Однако, после смерти в июле 1641 года его друга кардинала
Баньи,
набожного гуманиста и человека, уважаемого даже врагами Франции,
очевидных
кандидатов на примете не осталось. Но, как оказалось, Урбан, угнетаемый
болью и
горем, прожил еще в течение двух лет. Тем временем, 26 февраля 1642
года в
церкви Сен-Аполинар (St Apollinaire) в Валансе, Луи взял алую биретту
из рук камергера
римского папы и возложил его на голову Мазарини. В этом был большой
символизм:
кардинал, в скромном почтении встающий на колени перед
наихристианнейшим
королем.
Теперь
время было благоприятно для Мазарини, чтобы в новом положении, обладая
значительной
поддержкой высших правительственных кругов Франции, вернуться в Рим.
Ему было
достаточно легко пересечь Прованс и сесть на судно, уходящее из
Марселя.
Читатель может скептично относиться к его утверждению в письме к Бики,
что у
него было только одно желание – служить королю в Риме. Но,
возможно, он сам не
исключал такого варианта: теперь его положение в Риме и во Франции было
как
никогда высоким, он договорился о покупке палаццо Бентиволио
(«безумном
желании», как признавался он сам) и хотел увидеть его, также,
как увидеть снова
свою семью и уже больную мать. И все же его положение было щекотливым:
во
Франции у него оставалась высшая цель – наследовать Ришелье.
В этом своем
желании он был не одинок, а власть Ришелье не была в безопасности даже
в это
время. Отсутствие при дворе, даже краткое, могло оказаться фатальным
для его
шансов заполучить власть; но это так же могло бы ему помочь отвести от
себя
опалу, если бы Ришелье лишился власти. В связи с этим Мазарини
постарался
оттянуть решение о своем отъезде до того момента, когда Ришелье,
все-таки
поддержанный, после некоторых раздумий, Луи, расправился со своими
врагами и
смог заняться вопросами передачи власти. К тому времени, оставшись
вместе с
королем и кардиналом, сделав все, что от него требовалось, Мазарини
получил
шансы претендовать на высшую власть.
Характерен
тот факт, что враги Ришелье сами предопределили свое падение. Если бы
Гастон
Орлеанский был более решителен или последователен, то он, возможно, мог
бы
захватить лидерство. Но и позднее, начиная с рождения в 1638 году
дофина,
наследника трона, он все еще обладал большим состоянием и огромной
сетью
клиентелы, самой большой среди высшей знати. Его было можно убедить,
когда это
требовалось, поддержать намерения освободить короля от пагубного
влияния
кардинала; но он был гораздо менее готов сотрудничать и готов был
донести на
всех, когда становилось ясно, что Луи поддержит Ришелье против кого бы
то ни
было. Неисправимо эгоистичный, даже трусливый, что было как результатом
его
воспитания, так и следствием положения, когда он не мог сделать выбор
между
преданностью и политикой, Гастон оказался в самой трудной ситуации. Он
занимал
слишком хорошее положение, чтобы не ценить преимущества усиления
королевской
власти, и в том же время он как никто другой был способен понять все
обиды знати.
Напряженный язык памфлетов, выпускавшихся под его именем и
перечислявших
страдания бедных, возможно, был не больше, чем обычной риторикой;
и все же возможно, что этим Гастон заявлял высокие притязания на свою
общность
с французским народом, условия жизни которого, казалось, усиливали его
собственную травмированную гордость. С тех пор, как Луи и Ришелье
перестали
посвящать его в свои размышления и проводимую политику, он стал
доверенным
лицом заговорщиков. Они, эти Вандомы, Суассоны, Буйоны и Гизы, носители
самых
великих фамилий во Франции, в отличие от Ришелье, жили в мире, мало
затронутом размышлениями
о государственных интересах. По этой причине они трактовали свою
лояльность
признаваемой всеми ими персоне короля как необходимость действовать
против его
министра, который, с их точки зрения, узурпировал королевскую власть.
Заговор
1642 года, в осуществлении которого добивались помощи от испанцев и
рассматривали решение об убийстве кардинала, вызывает много вопросов,
однако,
не столько о самих решениях заговорщиков, сколько об их этике. Анри
Д'Эффиа (d'Effiat),
маркиз де Сен-Мар,
испорченный фаворит Луи, готовился, вместо того, чтобы заниматься
лошадьми,
самостоятельно влиять на королевскую политику и отомстить министру,
который
стремился уменьшить его влияние на короля. Он потребовал себе место в
совете, а
встречное предложение Ришелье принять вместо этого должность
губернатора
посчитал пренебрежительным по отношению к себе. Буйон, только что
потерявший
Седан после своего последнего восстания, видел в этом шанс возвратить
город
обратно и настаивал на заключении соглашения, обязывающем Испанию дать
денег и
войска. Гастон же позволил убедить себя в том, что король теперь готов
отправить Ришелье в отставку. Но Ришелье в тот момент уже был серьезно
болен.
Письма Мазарини к его племяннице, герцогине Д’Эгийон
предоставляют собой своего рода мемуары, передающие страдания Ришелье и
его
силу духа, чрезвычайно деятельного в борьбе за свое собственное
будущее. Удивительно,
что заговорщики не захотели позволить природе взять свое. И совсем не
удивительно, что Оливарес, стоя перед упадком своей политической роли,
колебался, прежде чем подписать соглашение, которое Фонтрай,
прослеженный в обе стороны шпионами Ришелье, привез в Мадрид для него.
Другой
друг Сен-Мара, Франсуа-Огюст де Ту (François-Auguste de
Thou), получил от
королевы чистые, подписанные бланки, которые могли быть заполнены как
указы
королевским чиновникам. Возможно, однако, что именно королева Анна
проследила,
чтобы Ришелье получил копию соглашения с Испанией. Она смотрела в
будущее:
материнство и неизбежность регентства давали ей ощущение новой
ответственности.
Фонтрая обескуражило публичное отчуждение между Сен-Маром и королем и
он в
волнении сбежал в Англию. Прежде, чем другие ястребы смогли взлететь за
ним,
Ришелье начал действовать с бешеной скоростью, чтобы получить
королевские
ордеры на ареста Сен-Мара, де Ту и Буйона. Гастон сотрудничал как
обычно,
обнародовав все, что он знал, а затем нашел убежище у своей сестры
Кристины; позднее
его уговорили вернуться ко двору, чтобы подписать декларацию, которая,
вместе с
обвинением Буйона, должна была стать смертным приговором Сен-Мару.
Мазарини
отвечал за содействие Буйона, вместе с конфискацией Седана и Ришелье и
в этом
деле отметил его способности: «монсеньор кардинал Мазарини
провел переговоры
настолько умно, что мсье де Буйон рассказал нам достаточно, чтобы
сделать наши
доказательства полными. Его посредничество в этих делах настолько
необходимо,
что я попросил, чтобы он возвратился завтра, чтобы увидеть, что сделано
все нужное
для Месье и сьера Буйона». Картина любезного светского
человека, который смог
свести остроту грозного вопроса измены к небольшому локальному
недоразумению
среди друзей, хорошо передана в ответе самого Мазарини: он был особенно
рад
прощению Бульона, так как он [Мазарини] был 'хорошим другом и слугой
виконта де
Тюренна'. Он также знал, насколько жизненно важно было для Ришелье,
чтобы
Тюренн остался лояльным короне. Его победа при Кемпфене в феврале
показала, что
он был, по крайней мере, равен старым имперским генералам
Нет
ничего более поразительного в жизни Ришелье, чем его последние месяцы,
когда он
трудился, не взирая на сильную жару лета долины Роны (Rhône),
для государства и
для себя, души и тела, чтобы разрушить замыслы своих врагов:
стремясь не к упрощенному правосудию, но используя для этого тщательный
анализ
доказательств и надлежащий законный судебный процесс. Гноящиеся язвы,
которые
покрывали его тело, были болезненным напоминанием смертности; он спал
урывками,
но ум его был в полном напряжении. Для связи с королем и для
каждодневного
управления дипломатией он использовал в основном Шавиньи; для контроля
за
военными операциями - Сюбле де Нуайе; для успешного окончания суда,
который
привел в сентябре к казни Сен-Мара и де Ту - канцлера Сегье; а в
конфиденциальных делах и специальных миссиях он все более и более
полагался на
Мазарини.
Существенной
особенностью предыдущего десятилетия, закрепившего преимущества Ришелье
в
правительстве, которые дали ему власть управлять и уверенность при
делегировании
полномочий, было развитие им собственной команды министров, связанных
общими
интересами, специализировавшихся каждый на своих делах и создававших
свои
собственные политические империи. Распространенный принцип клиентелы
(clientèles), по которому человек был обязан служить патрону
в соответствии с
квазифеодальными связями, определявшихся вполне официальным образом и
выражавшихся в преданности и ожидании взаимных услуг, нес в себе эффект
разделения, когда никто не мог иметь полного контроля над делами. В
период
Ришелье это явно способствовало более эффективному управлению
государством и
последовательности в политике. В эти месяцы у Мазарини, всегда
способного
ученика, была возможность видеть, во-первых, что могло быть достигнуто
совместными усилиями команды способных министров; во-вторых, в
маневрах,
типичных для политических деятелей любого режима, когда изменение
лидерства
неизбежно, увидеть возможности для прорыва в тот момент, когда
отсутствовал
признанный руководитель, управляющий от имени суверена. Объем
проделанной до
этого времени работы, учитывая активность интендантов в большинстве
областей,
был впечатляющ, планы же на будущее, с почти наверняка длинным
королевским
регентством, были туманны.
Тем
временем обстоятельства и личные нужды Ришелье тянули Мазарини все
ближе к
правящим кругам, где в скором времени будут приниматься важные решения.
23 мая
он свидетельствовал длинное и детальное завещание Ришелье. Таким
образом, он
оказался вовлечен в близкие детали наследства, в выражение мыслей
Ришелье о
будущем, тесно связанных с его философией жизни и управлением, что
только
усилило связь между этими двумя кардиналами. То, что их теперь
объединяло, практически
на интуитивном уровне, понятном без слов, как двух людей церкви с
большими
светскими обязанностями, становилось все более важным, чем различия в
их
характере и стиле. Доверие возрастало, пока один все больше болел, а
второй
соблюдал такт и внимание. То, что Мазарини был иностранцем, то есть до
некоторой степени посторонним, способным к объективности, его мягкие
сочувствующие манеры и способности найти свободное время для своего
патрона
(тем более ценное, поскольку теперь он уже нес груз своих собственных
административных
дел) возможно, помогало ослабить страдания и обеспечить утешение
больному.
Таким образом, вполне вероятно, что именно в эти свои последние месяцы
Ришелье увидел
в Мазарини своего преемника, и, если и не в качестве первого министра,
то, по
крайней мере, как руководителя большой дипломатической миссии,
необходимой для
того, чтобы принести мир в Европу и безопасность Франции.
|