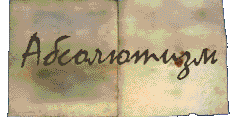
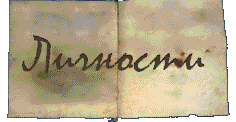
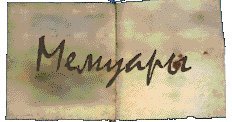
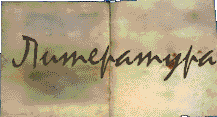

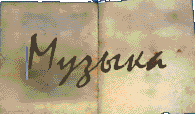
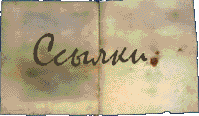
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ II.
СЛУЖБА ФРАНЦИИ
.
«Я
присоединился к кардиналу инстинктивно, даже
прежде, чем понял из опыта, что он великий человек»
Жюль Мазарен
.
12.
Королевский абсолютизм: Теория и традиции
.
В
ранние годы Мазарини образ Ришелье большинству представлялся ужасным.
Однако
уже министры Мазарини, так же как и Кольбер в более поздние времена,
ссылались
на него как на заключительного авторитета в своих делах: «а
что сделал бы
великий кардинал?». Фрондеры делали это с порицанием и
насмешкой над
непониманием Мазарини того, почему аналогичные действия Ришелье были
приемлемы,
а его нет. Прошлое, в котором все плохое успело позабыться, стало
казаться еще
более привлекательным в свете настоящих обид. Таким же образом Генрих IV уже
приобретал свой
почти легендарный статус хорошего короля, правившего землей изобилия.
Методы
правления Ришелье, были, однако, новыми для умов его современников.
Некоторые
из них были оскорблены и надеялись на компенсацию за это. Уважение к
человеку
не означало, что все принимали те мероприятия, которые он проводил. Это
не
имеет непосредственного отношения к отдельным мерам, но скорее к
тенденции к
централизации королевской власти, увеличение которой неизбежно
происходило за
счет прав отдельных индивидов и корпораций. До какой степени
образованные
французы принимали тенденции абсолютизма? Выиграл ли Ришелье и школа
спонсируемых им писателей
политический спор? От ответов на эти вопросы, вместе с другими
факторами,
зависел результат Фронды.
Исследуя
ближе то общество, которым управлял Ришелье, весьма далекого от
лаконичных
формулировок юриста или политического теоретика, историки пришли к
осторожному
восприятию абсолютизма как системы, даже если они все еще видят в нем
отличный
способ описать политический процесс: ряд часто произвольных, иногда
нерешительных и даже противоречивых, но всегда прагматичных попыток
содействовать возвышению королевской власти.
Признание реалий управления, по которым, к примеру, привилегированные
классы
осознали преимущества сотрудничества, а министры –
возможности получать прибыль
от расширения королевских полномочий, не означает лишить законной силы
теории
тех, кто стремился рационализировать или оправдать высокий роялизм.
Возможно,
для солдата, стершего на марше ноги, дудочки и барабаны аккомпанемента
не
адекватный комментарий к его опыту. Но даже если мелодии не понятны для
него,
то ритм все равно дает восприятие руководства дисциплиной: тоже самое
можно
сказать и про политических философов в отношении тех, кто должен был
быть
опорой основе. Те, кто служил королю, нуждались в устойчивых идеях,
которые
могли бы поощрять их деятельность и помогать видеть ее в свете причин,
находящихся выше грязного пейзажа политики. Не с нуля возникли Ле Бре,
Бальзак
и Пьезак,
современники Декарта,
математика, который, по словам Фонтенэ,
'задает тон целому столетию'. Трактат L'esprit de
géométrie (Рассуждения о
геометрии) был религией некоторых из лучших умов того времени и
проникал в каждое
царство мысли и искусства.
Первым в
череде философов абсолютизма был Карден Ле Бре, который
объединил практический опыт управления со способностью дать
убедительное
выражение принципам, которые лежали в основе его собственной
деятельности. Он
дал определение верховной власти в недвусмысленно абсолютных терминах:
«она не
более делима, чем точка в геометрии». Несомненно, идеи
абсолютизма на тот
момент представляли собой нечто большее, чем просто интеллектуальную
моду. Ле
Бре, Бальзак и другие, кто писал в том же самом духе, работали в том
настроении
общества, которое было сначала сильно затронуто центробежными силами в
делах во
время Религиозных войн, потом во время регентства Марии Медичи, когда
обладающие властью подданные требовали с государства выкуп; когда
религиозный
язык и структуры, относились ли они к гугенотам, Лиге или, позднее, к dévôt, усиливали дух
раздоров: эти
периоды ассоциировались с резней, убийствами и с вторжением Испании.
Люди,
сожалевшие о казни Монморанси, еще помнили убийство Генриха IV, а у
гугенотов, которые
имели множество доводов в пользу сопротивления «безбожному
правителю», с 1629
года были веские причины ценить политическую лояльность. Рассматривая
значимость прав отдельных индивидов и коллективную безопасность,
Бальзак делал
выбор в пользу последней. Произвол в наказании мог быть законным и
представлять
собой божественное вдохновение, выраженное королем, если это
требовалось для
политического выживания. Так же, как наблюдая за эмпирическим, ученые
вырвали
свободу из правил дедуктивной логики, так и логическое обоснование
абсолютизма
ссылалось на возможности, свойственные искусству политики. И все же это
было
больше, чем простое вычисление преимущества. В начале семнадцатого
столетия
роялизм находился в большем уважении, чем традиционные представления.
Монархия
поддерживалась событиями из истории и чувствами, которые они порождали,
мифами,
а так же законом. Когда королевство было небольшим и находилось в
окружении,
король появился как защитник и законодатель. Отсутствие единства в
пределах
государства, отражающее постепенный характер процесса завоеваний и
ассимиляций,
подчеркивает тот факт, что только один король представляет собой
единство. С
осознанием взаимной зависимости, характеризующей феодализм и отвечающей
за
требования, сделанные знатными семьями относительно щедрости короны,
пошло так
же ощущение близости, семейного духа, которое распространялось за
границы
двора. В своем бессовестно льстивом трактате De l'excellence des Roys et du Royaume de France
(1610) Бинон
делает акцент на доступности
короля: «это то, что привлекает и
покоряет сердца французов и делает их любящими и преданными своему
принцу».
Физическое присутствие короля имело первостепенную важность. Живя в
Лувре, или,
после 1643 года – в Пале-Рояле, он находился в пределах
близкого расстояния от
Парламента, Нотр-Дама, Ратуши, не говоря уже о неофициальных центрах
парижского
мнения, таких как рынки и Гревская площадь. Этот факт наиболее ярко
проявляется
в историях Фронды. Это был кошмар для всех заинтересованных в
сохранении короля
во дворце: и действительно, главной дилеммой двора во время Фронды был
выбор
между присутствием короля в Париже как центра для обеспечения
лояльности
парижан и свободой маневров, которой он мог пользоваться за его
пределами в
провинциях. Годы, когда власть юного короля находилась под угрозой
свержения
стали также, однако, годами, когда любовь подданных к своему королю
была самой
экспансивной и драгоценной.
Идея
божественного права играла значительную роль у роялиста, думавшего о
господстве
Луи XII, и в
дальнейшем была украшена в пользу его преемника.
Идеи были общеприняты: святое писание было усилено литературными
доводами,
которыми патриотически настроенные авторы подчеркивали законность Валуа
и
приветствовали окончательную победу как благословление бога на fleur de lys (геральдическую лилию,
символ монаршей власти) и династию. Король становился священным с
момента своей
коронации в Реймсе, когда он был помазан маслом из священной чаши
Хлодвига.
На церемонию он одевал тунику, «похожую на ту, что одевает
поддъякон на мессу»,
его мантия, «поднята слева, как поднимает свою ризу
священник». Таким образом, le roi
thaumaturge
(чудотворного
короля), стоявшего отдельно от
всех, постоянно уверяли, что он похож на епископа, «первого в
Вашем королевстве
после Римского папы, правой руки церкви». Он был très chrétien (наихристианнейшим),
звание, которое стало фактически формальным титулом. Как и у королей
Англии, он
касался «вреда королю».
Никакая оценка Луи XIII, который
был беспокойным, скрупулезным человеком, не должна упускать глубокий
смысл
религиозного призвания, который повлиял на его взгляды на управление
государством. И при этом Луи XIV не может быть понят без того, что
было для него, мальчика и мужчины,
непоколебимой предпосылкой: королевский сан был доверием, за которое
его
держатель нес ответственность только перед одним богом. Однако когда
королевское поведение было обусловлено представлениями, подобными
представлениям дю Буа (du Boys):
что «короли были господами в повиновении, которое подданные
должны были питать
к ним, как собственник имущества и жизней людей», когда
решения в политике
принимались на основаниях, столь же субъективных, как и побуждение
совести, не
существовало ли опасности, что божественное право могло принять форму
чека без
обозначения суммы, на котором суверен мог написать столько, сколько ему
захочется? Этот вопрос теряет свою остроту при рассмотрении других
источников
королевской власти.
Во
времена Луи XIII появилась партия, названная bons
français
(хорошие французы), это название отражало, что их убеждения, по
сравнению с dévôts,
уделявшими первостепенное
значение международным интересам католицизма, ничем, кроме интересов о
пользе
Франции не вдохновлялись. Они считали, что королю следует повиноваться,
как
высшему представителю государства. В начале семнадцатого века
католицизм многих
придворных, большинства парламентариев и подавляющего числа епископов
был
сильно смещен в сторону галликанства. Переход Генриха IV в
католицизм,
призванный создать впечатление дарования подлинности его требованиям на
корону,
которые многие католики расценивали до этого как сомнительные, оставил,
однако,
некоторых из них неубежденными. Поэтому убийство Генриха IV (в
1610 году) было
больше, чем отдельно взятый жест фанатика: Равальяк взял только их
логические
выводы из взглядов на ересь и обстоятельства для тираноубийства. Этот
ужасающий
поступок навлек подозрения на мотивы и намерения Генриха. Не собирался
ли он
объявить войну Испании? Противостояние bons
français и dévôts,
питаемое, с
одной стороны, враждебностью многих французов к этой стране и, с другой
стороны, рвением к крестовому походу габсбургских принцев против
европейской
ереси, стало центральной идеологической проблемой, чрезвычайно мешавшей
как при
Ришелье, так и при Мазарини.
В
1635 году Матье де Морг
(Matthieu de Morgues) был приговорен к смерти после заочного судебного
разбирательства по делу о заговоре против государства и жизни кардинала
заседанием Chambre de l'Arsenal
(арсенальной комнаты): специальный суд, чрезвычайность и
необоснованность дела,
обвинение и окончательный вердикт - все это вместе иллюстрирует ту
ужасную
пропасть, которая открылась между обеими сторонами. В своем Catholicon françois (Средство
от всех
болезней французов) Морг осуждал использование Ришелье религиозных
идей, так
как: «Ваш наставник Макиавелли показал действия древних
римлян, формируя их, …
применяя их настолько далеко, насколько это может помочь продвижению
ваших
проектов», чтобы оправдать внешнюю политику, которая принесла
«врагов, войны и
беспорядки, каких Франция никогда не видела». Морг оставался
постоянным врагом
Ришелье, переключившись впоследствии на Мазарини, источником
скандальных
историй и активным участником черной легенды о двух недобросовестных
кардиналах, предающих доверие короля и интересы его государства. Но еще
более
серьезные последствия проистекали из спора, родившегося тоже в 1635
году из-за
книги Янсена Mars Gallicus
(Марс Галлический). Его активные нападки в ней на французскую политику
вызвали
со стороны Ришелье ответные репрессии, которые в итоге установили
образец для
королевской политики по отношению к янсенизму на всю оставшуюся часть
столетия.
Ришелье уполномочил Пьезака написать его Vindiciae Gallicae
(Оправдание
галликанству),
исследование о raison
d'état (государственных интересах) как о совместимых с
христианством и
являющихся бескомпромиссной защитой прав короля действовать так, как он
считает
нужным для сохранения своего государства. Это было не о подданных,
«тех,
которые рождаются повиноваться, проникнувшись делами
государства». Это,
конечно, размышления кардинала, разработанные им в его Mémoires
(мемуарах) и Testament Politique
(Политическом завещании). Где во всем этом оставалось место Парламенту?
Он был
исключен из дел государства? Права судей в их собственном понимании
были ясны,
их конституциональное место было санкционировано традицией. Их реакция
на
политику, в особенности на религиозные вопросы и иностранные дела, в
силу
многих причин была неоднозначной, но это было только преимуществом для
короны.
Судьи, выступая против проявления королевской власти, утверждали, что
защищают
власть короны от узурпаций.
Будучи
в чем то, возможно, незрелой оппозицией, судьи продолжали настаивать на
зависимости церкви от защиты короля: это, таким образом, увеличивало
его
светскую власть. Контраст с Англией действительно поразителен:
поскольку там
королевское превосходство было материальным фактом, то пуританские
противники
умеренной политики абсолютизма Карла I использовали именно религиозные
аргументы против роялизма высших церковных сановников. Отсутствие
центрального
представительного органа, подобного английскому парламенту и господство
римского права в практике французских судов было главными причинами
отклонения
в политических курсах этих двух стран. Римские аксиомы поддерживали
политику
абсолютизма.
Контрастирующий
акцент в публичном праве, касающемся прав граждан, опора на прецеденты,
историческая среда, которая привела к выделению 'третьего сословия'
(Палате
общин), усиливавших собственные права, а также присутствие там большого
количества юристов - все это вместе создавало большие препятствия росту
королевской власти в Англии. Из этого, конечно, не следует, что во
Франции не
существовало никаких ограничений для власти короля, где, как и вообще в
Европе,
'свобода' представляла собой специфические и исключительные права и
привилегии,
очень многие из которых являлись памятником столетней торговли между
сувереном
и его подданными. Будучи разбросанными по всему государству в различных
формах
(таких, как таможня, законы провинций, отдельных феодов и городов), эти
права и
привилегии были защищены законом, который парламенты (как место встречи
корпоративных интересов) обычно поддерживали.
Как
и королевский двор, Парламент,
составленный из королевских чиновников, утверждал, что имеет право на
долю в
абсолютном суверенитете короны. Но при этом он обладал юридической
мощью,
которая была представлена исключительной властью по защите отдельных
прав – и
вот эту свою двойственность Парламент ярко продемонстрировал во время
Фронды.
Тем временем, учитывая симпатии ведущих парламентариев к галликанизму,
нетрудно
понять, почему третье сословие предложило на Генеральных Штатах в
1614-15 гг
ввести в «фундаментальный закон государства» тезис
о том, что «король является
сувереном Франции и владеет короной исключительно только с помощью
бога»: он
был нацелен против тех ультрагористов, которые считали власть римского
папы
выше власти короля даже в мирских делах. Самое парадоксальное состояло
в том,
что именно корона отклонила эту лояльную к ней декларацию. Очевидно,
таким
образом, министры желали избежать разногласий с церковью, которая могла
расценить это как ересь. Но даже этот эпизод очень ясно показывает
способы,
которыми галликанский парламентаризм способствовал росту ультрароялизма.
Для
известного писателя Луазо (C. Loyseau),
автора влиятельного Traité de
Ordres
(1613), вопросы о правах и узурпациях был бессмысленны. Король, как
представитель Бога на земле, как воплощение государства, был
единственным
законодателем, ограниченным не человеческой волей. 'Неограниченная
власть
суверена... прекрасная и совершенная во всех подробностях', позволяет
ему
создавать законы, жаловать и отбирать должности и привилегии,
отправлять
правосудие, печатать деньги и устанавливать налоги; все без согласия
Штатов. 'Власть
принца', резюмирует он, 'простирается на вещи так же, как и на людей' и
он
может распоряжаться всем этим 'для надлежащей потребности своего
народа'. Тогда
получается, что роль Парламента сводилась лишь к тому, чтобы обсуждать
то, что
является такой 'потребностью'? Это должно было, как следствие, дать
свободу
действий raison d'état
(государственным интересам), низводя регистрацию законов до пустой
формальности. Не удивительно, что Парламент, в свою очередь, оставался
предан
традиционной интерпретации королевской власти, согласно которой король
не был
свободен распоряжаться королевством, как он того желал, поскольку не
являлся
его владельцем, но только распорядителем corps
politique et mystique (мистического тела политики), которое
было составлено
таким образом, что король, являлся его головой, а остальными частями
были
представители трех сословий. Поэтому, если какая-нибудь часть этого
тела была
повреждена, то повреждено было целое тело. Возможно, такая органическая
метафора была банальной, но зато близка к реальной ситуации, поскольку
существовали
границы тому, где суверен мог обойтись без нарастающего
противодействия,
которое выдвигалось от имени 'фундаментальных законов', отражавших те
укоренившиеся положения, которые ограничивали возможность министров
действовать
решительно, и были наиболее закоснелыми, когда оказывалось, что в
реальности
делу короля вредили те, кто утверждал, что действовал от его имени.
То,
что все это было не просто теоретическими вопросами, становилось
очевидным в
периодической борьбе между короной и Парламентом, как это, к примеру,
было в
1632 году, когда Парламент отказался зарегистрировать указ об
учреждении Chambre de l'Arsenal
(арсенальной
комнаты), что привело к оскорблению короля. В очередной раз солью на
старые
раны стала ситуация, когда, после начала в 1635 году войны, казалось,
заседанием lit de justice были
зарегистрированы указы о создании новых должностей, из которых двадцать
четыре
- непосредственно в самом Парламенте. Но некоторые члены Enquêtes
(следственного комитета?) потребовали, чтобы указы были
рассмотрены расширенной сессией. Когда зачинщики в январе 1636 года
были
арестованы и высланы из столицы, их коллеги устроили судебную
забастовку,
которая продлилась до марта. Мир был восстановлен только тогда, когда
король
согласился вернуть сосланных судей и сократить число новых должностей в
Парламенте до семнадцати. Обеспечивая существенный фон конституционной
Фронде,
это дело хорошо иллюстрирует положение короля и Парламента, а также
границы, в
пределах которых каждый из них мог действовать. Они изменялись в
согласии с
властью короны в заданное время. В 1638 году, после протеста по поводу
несостоятельности короны в оплате некоторых рент, пять судей были
сосланы из
столицы; за первой забастовкой последовала вторая, но король твердо
стоял на
своем и Парламент сдался, так и не добившись уступок. В феврале 1641
года это
августейшее сообщество (*т.е. Парламент) было вынуждено
зарегистрировать указ,
определяющий отныне его роль: он обязан был регистрировать политические
указы без
предварительного обсуждения, которому отныне могли подвергаться только
эдикты,
имеющие специфическую финансовую или судебную природу. Только престиж
решительного короля мог гарантировать согласие Парламента на такие
неприятные
меры. Но осадок остался, а благосклонность была принесена в жертву.
Можно было
ожидать реакции.
Как правило, Ришелье был наиболее эффективен в
атаках в отношении личностей. Развивая власть интендантов или создавая
новые
суды, он мог обойти, но не заменить уже существующих чиновников и суды.
Когда
он предпринял атаку на учреждение, это, вероятно, было первое движение
в
процессе торговли, в результате которого можно было ожидать достижение
некоторой формы компромисса. Если какой-нибудь министр и преследовал
цели
достичь фискальной однородности, вводя élections
(выборных) в pays d'étâts,
то это был
его конкурент Марийяк, а вовсе не сам Ришелье, отчет которого по этой
проблеме
показывает, что он был в значительной степени прагматиком,
заинтересованным
прежде всего в обеспечении средств и во все возрастающей степени
знающий о
недостатках élections в
этом
отношении. В случае Бургундии, Прованса, Лангедока и Бретани все еще
существовали местные Штаты, а с ними и taille
réelle (имущественная талья), хотя только Бретань
избежала карательных действий.
Собственная
власть Ришелье и пределы воздействия были получены им из эксплуатации
своей
клиентелы, увеличенной в
настолько
широком масштабе, что ее уже можно было идентифицировать с королевским
правительством. Его целеустремленное приобретение земель и должностей
не было
чем то новым; но масштаб, который привел к состоянию, в конечном итоге
большему, чем состояние Гастона или Конде, заставил родовитых дворян
встать к
нему либо в оппозицию, либо придти к компромиссу с великим министром.
Со
смертью Монморанси умерла и часть духа старого феодализма; Конде, более
реалистичный, или просто более корыстный, согласился в 1641 году на
брак своего
сына с племянницей кардинала:
впечатляющий контраст. Фронда показала, что старые ценности,
привязанности и
лозунги все еще привлекательны; но на каждого дворянина готового пройти
полный
путь славы, смерти или немилости, находился другой, готовый
сотрудничать.
Выгодный брак младшего сына Конде, принца Конти, на одной из мазаринеток
открывал ему гораздо больше перспектив на будущее в обществе и
правительстве,
чем джентльмену из Пуату, объединившемуся с герцогом Ларошфуко.
Даже
если Ришелье и был беспощаден в преследовании ясно определенных целей,
которые
характеризуют его как рационального человека в политике, он все же
обладал
здравым смыслом, позволявшим ему оставаться в рамках реальности:
доказательством тому служат его отношение к гугенотам и его политика
ограниченных целей в выстраивании безопасных границ. Его собственная
религиозная вера не была ни фанатичной, ни ограниченной, но конечно,
постигала
часть из того, что было самым прекрасным в этом «великом веке
людей». Далекий
от того, чтобы огрубеть от власти и богатства, автор Treatise of Christian Perfection (Трактата о христианском
совершенстве), преданный друг Жозефа дю Трамбле, кажется, на самом деле
совершенствовал духовную проницательность и спокойствие (и способности
переносить физические страдания) в последние годы своего правления.
Конечно,
такие утверждения могут указывать только на некоторые тенденции и не в
состоянии очертить человека, который в одно и то же время мог казаться
циничным, едким, резким и истеричным, но при этом оставаться
великодушным и
нежным. Они (*утверждения), выдвигают на первый план методы, которыми
он
отличался от Мазарини и мало затуманивают ясное впечатление, независимо
от
того, появилось ли оно из внутренней или внешней политики, или из
развития
политических идей в контексте роялистских традиций и
последовательности. Были
неудачи и времена нерешительности, но в том, что сам Ришелье всегда
оценивал
как главную работу правительства, он никогда не колебался.
|