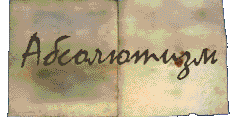
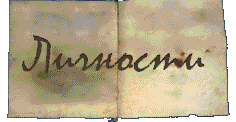
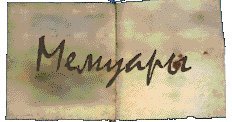
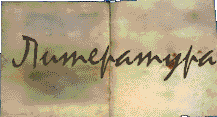

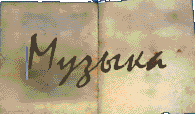
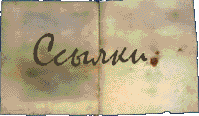
|
Перевод:
Ольга Сысоева
ЧАСТЬ I.
ДЖУЛИО МАЗАРИНИ,
ПАПСКИЙ
ДИПЛОМАТ
.
«Не
раздумывай слишком много, иначе не успеешь измениться»
Франческо
Барберини
.
.
.
5. Внеочередной нунций
.
В августе 1634 года, в праздничный день Св. Луи,
Мазарини оставил Рим и направился во Францию. Он путешествовал в
роскошном
экипаже, запряженном шестеркой мулов с небольшим окружением; картины,
включавшие в себя четырех Тицианов и одного Пьетро де Кортону и
сундуки, полные
ароматов и пустяков, были предназначены для галереи кардинала Ришелье и
были
подарками кардинала Антонио. Именно ему Мазарини был обязан своим новым
назначением, в котором он следовал за своим другом Бики как папский
представитель при французском дворе. Урбан отказался дать ему
назначение
нунция, как Бики, но удовлетворил просьбы Ришелье, позволив Мазарини
прибыть
туда в статусе внеочередного нунция.
Неспешное продвижение Мазарини очень много говорит
о его способности
получать знания от разных важных людей: убеждая каждого в своем особом
расположении к нему, относясь непредвзято и действуя непринужденно. Во
Флоренции он встретился с сосланным Карлом Лотарингским, который
заплатил за
то, что обладал стратегически важными землями на уязвимой восточной
границе
Франции и имел причастность к закулисным интригам французского двора. В
Модене
он лишился своего любимого скрипача Микеланджело, оставив его на службе
герцога, и изучал победу Габсбургов при Нордлингене. Мазарини имел
типично
самоуверенную точку зрения: он был «определенно человеком,
слушающим с большей
вежливостью и вниманием после этого события». В Турине он
провел приятные дни в
компании герцогини Кристины. В Авиньоне он внимал советам губернатора
Луи XIII в Лангедоке о том,
что формирование итальянской лиги может помочь универсальным мирным
переговорам.
Когда Мазарини в конечном итоге прибыл в Париж в конце ноября, его карета
была встречена
эскортом из ста карет официальной стороны приема во главе с графом
Д’Элие (d'Alais)
у ворот Сен-Антуан (Porte St Antoine) и оттуда обычным церемониальным
маршрутом
сопровождена через Гревскую площадь
(Place de la Grève), мимо Ратуши (Hotel de Ville), и вдоль
правого берега Сены
в Лувр. Эта церемония была общепринята для встречи новых посланников,
чтобы
оказать хорошие формальные почести при въезде. Когда дело было связано
с
церковью, сановники, находившиеся далеко, желали демонстрировать
вежливый
торжественный прием. Чрезмерный масштаб этого приема указывает на то
значение,
которое французы придавали хорошим отношениям с папой. Ришелье мог
положиться
на нового посланника, поскольку сразу сообщил ему о недостижимости
привезенных
тем условий. Нордлинген поставил его на грань открытой войны. Поэтому
миссия
Мазарини была сколь тонкой, столь и важной, и он нуждался во всем своем
оптимизме, чтобы преодолеть свое беспокойство о нереалистичности
поставленных
целей: 'Вы можете мне поверить', писал он Сервьену, 'я не хотел бы
занимать
самого себя переговорами, в которых невозможно преуспеть....' Но
находиться в
Париже, близко к тому гению, в котором он видел персонифицированную
неудержимую
судьбу Франции, было достаточно, чтобы успокоить все сомнения
(*впрочем, тот же
Эрланже указывает, что Мазарини очень надеялся на успех в миссии
недопущения
войны и даже почти в этом преуспел, если бы испанцы не оскорбили короля
арестом
правителя Трира)
Римский папа поставил перед своим посланником три
цели, которые, будучи
отдельными, достигнуть, тем не менее, было очень тяжело: заставить Луи XIII
признать брак,
который Гастон
тайно
заключил с Маргаритой Лотарингской; убедить Францию вернуть Лотарингию
ее брату
Карлу; и препятствовать тому, чтобы Ришелье выступил в открытую в войне
против
Габсбургов. Но только Ришелье мог определять, что в этом случае для
него выше: военный
риск или благоприятное положение. До настоящего времени его стратегия
состояла
в том, чтобы работать через союзников - голландцев, а недавно
– еще и шведов,
предпринимая шаги, чтобы усилить свои уязвимые границы, занимая в
первую
очередь Лотарингию, затем Трир. Он знал о недостатках внутри армий,
простирающихся в самые ее верхи, где генералы могли поместить свои
политические
интересы перед своей лояльностью короне. Однако Испании нужно было
противостоять, и средств это требовало чрезвычайных: армии, базируемые
в
восточных провинциях, гораздо более дешево было бы развернуть на
вражеской
территории. Изучая события, и обсуждая политику с официальными лицами,
Мазарини
получал привилегированное ученичество в искусстве управлять
государством. И он решил
рискнуть в сфере деятельности своего патрона. Однажды, в марте 1635, он
поднял
вопрос по делу герцога Лотарингского и, как он потом сообщал, высказал
красноречивую просьбу относительно мира. 'Его Преосвященство вспылил и
резко
ответил, что я ухаживаю за миром, как будто это леди моих мечтаний и,
сжав мою руку,
завершил: "Вы еще не покидаете Францию" (*Эрланже упоминает этот
эпизод в другом контексте: якобы эту фразу Ришелье произнес, когда
Мазарини
сообщил ему, что император согласился на проведение мирного конгресса,
незадолго до объявления войны с Испанией).
Ришелье, кажется, уже смирился с неизбежностью
войны, которую Оливарес
положительно приветствовал.
Лотарингия была жизненно важной частью стратегии Ришелье, поэтому союз
между
Гастоном и Маргаритой был тем, против чего он просто обязан был
выступить.
Кроме того, брак был недействительным, поскольку духовник, совершивший
церемонию, не получил на то королевского согласия, являющегося обычаем
Франции,
'подтвержденным законным предписанием, и разрешенным церковью'. Здесь
папский
дипломат столкнулся с препятствием в виде галликанизма,
корпуса законов и традиций, подогнанного под потребности короны, не
всегда
очевидного, но подобно айсбергу, массивного снизу. Это был один из
ранних
уроков особенностей
французской власти,
полезное предупреждение против доверия ультраконсервативным
предположениям
ватиканских экспертов, самой их способности достигнуть чего-нибудь
существенного против желания суверена.
То, что это означало, немедленно затрагивая судьбы
миллионов людей,
было четко продемонстрировано 26 мая 1635 года, когда под формальное
трубление
герольдов на Большой пощади (Grande
place) в
Брюсселе Луи XIII объявил войну Испании. Очевидно, что Мазарини
потерпел неудачу в достижении каждой из трех целей. Скоро, упреждая
такие
экстраординарные события, как смерть Ришелье или тяжелое французское
поражение,
он должен будет сделать выбор между службой Святому престолу и
«наихристианнейшему королю» ('le roi
trés chrétien'). Тем временем, в Риме,
кардинал Антонио, трудясь над тем, чтобы убедить Урбана не
высказываться явно в
пользу Испании, был высокого мнения о ценности своего клиента,
поскольку он
написал Ришелье: 'нет никого, в ком я имел бы больше уверенности, чем в
Мазарини... Я всегда считал его лучшим слугой, которого Его Величество
или Вы
могли бы иметь'. Мазарини, в свою очередь, должен был сообщить Ришелье
эту одобрительную
реакцию на неуклюжем французском, который он тогда только изучал и
который дает
читателю некоторое представление о произношении, которое вызвало бы у
французского читателя только ухмылку: 'le Cardinal Antoine et for
generos el il
aeme bien le France'. (Кардинал Антуан очень великодушен и он сильно
любит
Францию). Он был пристрастен, но реалистичен. В октябре 1635, например,
он
написал, что Париж, как вся Франция, был полон людей, сочувствующих
Испании:
они были 'во власти веры, что смена правительства улучшит их условия'.
Всегда восторженный покупатель, Мазарини отсылал
домой подарки,
предназначая покупки своим патронам, такие как фламандский гобелен
«очень
богатый золотом», который хорошо отражал его вкус к роскоши.
Он использовал
свою любовь к музыке как хороший способ завоевать уважение Ришелье как
одного
из conoscenti (*ценителей - итал). Он проявлял
наличие вкуса, даря ему самые прекрасные картины, что так же являлось
хорошим
способом разделить малодоступное время частной жизни с Ришелье в
Пале-Кардинале. Независимо от того то, что француз все еще ему
покровительствовал и дразнил путем, который скоро Мазарини должен был
оставить,
можно задаться вопросом, где он находился в интеллектуальной ценностной
шкале
отношений Ришелье. Человек, менее решительный, чтобы расти в карьере,
возможно,
негодовал бы на использование применительно к нему фамильярных имен,
таких nunzincardo
(*правильнее – nuncincardo),
или сolmardo.
Мазарини не мог подтрунивать в том же ключе: он должен был сохранять
свое
место. Поэтому своему начальству в отчетах он лишь писал, что 'заставил
Его
Преосвященство смеяться'. Не принадлежа никакой придворной фракции и
свободный
от любой должности в государстве, он обладал для Ришелье тем
преимуществом
иностранца, в результате которого он мог получить достаточно большое
доверие.
Мазарини, новичок в государственных делах, был отмечен как прекрасный
секретарь,
проявляя достаточно внимания к потребностям и капризам Ришелье. Но за
его
уступчивостью и покладистостью скрывался независимый ум. Его взгляды на
дипломатию были достаточно хорошо известны, чтобы внушать уважение,
даже если
они не всегда совпадали с взглядами отца Жозефа. Поэтому этот год, хоть
и
оказался бесплодным с точки зрения дипломатических достижений, он был
чрезвычайно плодотворен для продвижения карьеры Мазарини, поскольку он
получил
доверие самого могущественного человека в Европе.
Тем
временем, кардинал Антонио, остававшийся в Риме, сохранял свою
лояльность.
Мазарини поощрял амбиции своего патрона предложениями, которые так же
предназначались и для глаз папы Урбана: тщательно продуманные диверсии,
призванные помешать ограничению планов Ришелье. Один из проектов,
предложенный
Мазарини, предполагал присоединение к Риму независимого княжества
Кастро,
которое находилось на севере от папского государства, в соответствии с
пармским
правом: если при содействии Франции герцог Пармы получал принадлежащий
испанцам
Милан, то он в качестве признательности соглашался передать Кастро
папе. В этом
оптимистическом проекте были существенные недостатки, о которых
Мазарини не мог
не знать:
кардинал Франческо был в гораздо меньшем восторге от французов, чем его
брат. И
даже скорее, он гораздо более открыто, чем прежде, выражал свои
симпатии
испанской фракции в Риме, которая традиционно саботировала планы созыва
мирного
конгресса, идею которого продвигал Мазарини. В результате, Франческо
имел
основания подозревать посланника в том, что он предался Ришелье, а так
же
потерял из виду главные цели своей миссии. В итоге, он распорядился
начать
переговоры о созыве конгресса и приказал Мазарини оставить Париж и
удалиться в
Авиньон.
Папский город, внушительный и красивый, где
римские папы четырнадцатого
столетия когда-то сидели «в заточении», традиционно
возглавлял папский легат;
Мазарини, однако, был многозначительно назначен вице-легатом. Он принял
это
назначение в марте 1636 года с явной неохотой. В марионеточном Авиньоне
он не
мог ни блистать, ни управлять. Ришелье написал ему, выражая
беспокойство о его
болезни, в изысканном стиле, мягко передразнивавшем собственный стиль
Мазарини;
но закончил письмо словами, которые могли бы передать удрученному
изгнаннику
всю его симпатию: «я очень боюсь, что этот хороший
итальянский лорд был так
задет произошедшим, что его настроение гораздо более больно, чем его
тело».
В Авиньоне у Мазарини наступила нетипичная для
него депрессия. Во время
этого периода у него, как замечается, не было никакой склонности
заниматься ни
самообразованием, ни даже экипировать себя более полно для мира, в
котором
Ришелье сиял так ярко. И, хотя он, возможно, изучал богословие или
занимался
исследованием волнующего мира философов, он жаловался Шавиньи, что его
'жизнь в
этой стране - самая большая меланхолия в мире'. Мы ничего не увидим в
его
переписке ни о Мерсене,
который недавно основал свою математическую академию в Париже, ни о
провансальце Гассенди,
священнике, чьи предположения становились влиятельными. Мазарини не
оставил
религиозных записей. В его письмах отсутствуют теоретические интересы.
Если
удаление и означало возможности для большей рефлексии или более
систематического взращивания его веры, то мы не обнаружили таких вещей.
Дружба
с Бики, ставшем епископом в соседнем Карпантре (Carpentras), делала то
немногое, что могло поддержать его настроение. Он преобразовал одну из
старых
гостиных дворца в игорный дом: 'но после игры в течение часа я начинаю
скучать
еще больше чем когда-либо'. Он гарантировал Ришелье, что 'он обменяет
свою
жизнь на жизнь садовника в Рюэле'.
Расстроенный посланник, для которого суть и вкус жизни существовали
только в
человеческих отношениях, очень беспокоился о своем положении перед
Ришелье, и
он подозревал суперинтенданта Бюльона
в создании предубеждения против него. Однако главное преступление
суперинтенданта было только в том, что он не платил положенные Мазарини
деньги.
Безразличие Ришелье к судьбе изгнанника легко
объяснимо. Объединенная
испанско-имперская армия пересекла границу Франции и встретила лето
1636 года в
Корби.
Французское наступление прошлого года закончилось поражением и остатки
армии
уходили из Фландрии в деморализованном беспорядке. Кампания обнаружила
множественные дефекты армии, все еще в некотором роде феодальной,
полагающейся
прежде всего на навыки отдельных генералов и плохо обученной. Имперские
и
испанские ветераны немецких и голландских войн считали, что французы
боятся
боя. Как и в 1640 году, глубокие политические разногласия обладали
обессиливающим
результатом. Поспешная сдача губернаторами Капеля (La Capelle) и Шатле (Le
Câtelet),
городов, лежавших
на пути продвижения испанских войск, внушала мысли об измене: армия Ла
Форса (La Force) в
Эльзасе, которой давно не платили, была мятежна. В Италии
франко-савойский
поход маршала Креки на Милан окончился ничем, и Виктор-Амадеус угрожал
выходом
из коалиции. В начале августа испанцы захватили Корби, и были около
Амьена, в
то время как авангард имперского генерала Верта, состоящий из
хорватской
кавалерии, имеющей плохую репутацию из-за своей дикости, уже спешил в
Компьень,
находящийся в двух днях от Парижа. Когда беженцы переполняли улицы
столицы и
Ришелье говорил об эвакуации; задавался ли вопросом вице-легат
– на правильную
лошадь ли сделал он ставку?
Это был не просто военный кризис. Парламент, этот
как всегда
чувствительный индикатор, начал громко возражать против указов,
вводящих в
оборот новые должности. Мера эта была предпринята с целью увеличить
поступления
от налогов, и это было плохое предзнаменование, поскольку предпринята
она была
уже после первого года войны. Интенданты
начали налагать предписанные суммы на города. В сентябре в Ренне (Rennes)
буйная бретонская
толпа поддержала местный парламент, выступивший против увеличения
налогов.
Тяжелое налогообложение было главной причиной восстания кроканов,
которые вспыхнули в некоторых наиболее отдаленных и непослушных
провинциях на
юго-западе. Правительству, подвергнутому тяжелому прессингу со всех
сторон,
сильно повезло, когда военная угроза ушла перед Рождеством. Как и в
1792, и в
1914 годах, вражеские главнокомандующие потеряли свою резвость,
поскольку
слишком сильно оторвались от своего тыла и линии связи оказались
слишком
растянуты. А французы, наоборот, перед лицом опасности сплачивались
смелее: энергичные
атаки вернули назад Корби и равнины, прилегающие к Сомме. Луи XIII
выехал из Парижа,
чтобы присоединиться к своим войскам, находившимся в Санлисе (Senlis).
«Газетт» (Gazette)
Ришелье
раздувала помпу вокруг
каждого французского успеха в
войне, но
сам кардинал был сильно потрясен неудачами лета. Ему насильно напомнили
о
близости Парижа к границе. Кошмары времен гражданской войны и
присутствия
Испании в Северной Франции возникли заново. Ришелье оказался перед
насущной
необходимостью реформировать армию и усилить свою власть в
правительстве.
Тем временем Мазарини искал пищу для своего сердца
вне Авиньона,
наблюдая кризис в войне, который, как он надеялся, его патрон сможет
предотвратить, осведомленный даже о том, что и после отхода
габсбургских армий
позиции Ришелье пошатнулись и во французскую политику вторгались такие
деятели,
как Шатонеф,
любовник мадам де Шеврез,
отправленной Ришелье в изгнание в 1633 году. Мазарини отправил груз
пороха для
французской армии. Но это действие нуждалось в нечто большем, чем
просто
благодарственное письмо Ришелье, для того, чтобы рассеять его ощущение
ненадежности. Он даже несколько потерял свою голову, он писал, что
прежде, чем
терять поддержку Барберини, "какое решение должно быть меня,
преследуемого
испанцами, покинутого Его Преосвященством, и без какой-либо гарантии
того,
чтобы быть хорошо принятым во Франции, где ситуация может измениться в
мгновение ока вообще?' Франческо Барберини, возможно, действительно
оставил его
без своей поддержки, но теперь он пожинал плоды своего обхаживания
кардинала
Антонио, который в ноябре 1636 получил для Мазарини возможность вернуться в Рим.
Трудности путешествия семнадцатого века и волнение
человека могут быть
отмечены в поведении Мазарини, когда после месяца поездки он прибыл в
Чивитта
Векья и поспешно поехал дальше, чтобы прибыть рано утром и броситься в
ноги
кардиналу Антонио. Он был принят с расположением и ободрением.
Возможно,
Антонио был удивлен, что кто-нибудь мог быть озабочен так сильно, что
смог
появиться в такой ранний час. Однако Мазарини не мог чересчур доверять
этому
князю церкви, собственное положение которого тоже было не слишком
устойчивым.
Но он никогда не забывал о той своевременной помощи, которую ему оказал
тогда
кардинал Антонио. И когда их позиции кардинально поменялись –
он оказался у
власти, а Антонио был преследуем, он обеспечил ему поддержку и
великодушно
назначил содержание из доходов церкви. Существует достаточно много
случаев,
когда доброта Мазарини может быть ясно вычислена; в одних случаях это
было
великодушие; в других это была непредвзятость и участие. Маршал Туара,
защитник Казале, оказал ему поддержку в течение тех беспокойных дней,
когда он
делал свою карьеру. Впоследствии, когда Туара попал в опалу, и,
возможно,
казался опасным субъектом для того, чтобы открыто ему помочь. Мазарини
все же
ходатайствовал, чтобы получить разрешение для него служить в Савойе.
Когда он
умер вскоре после этого, добрые слова Мазарини про него были
бесхитростны:
"маршал любил Италию, и в своем уважении достойных людей он не делал
различий для национальности" (*сюда бы лично я еще отнесла бы
постоянную
поддержку маршалу Тюренну, о котором он неизменно был высокого мнения,
считая,
что все его измены короне скорее обусловлены долгами крови, чем личными
моральными качествами). Нет, Мазарини очевидно надеялся на Ришелье.
Мазарини вернулся в Рим, вооруженный инструкциями
от Ришелье, который
сделал из него, по
сути, личного агента
Луи XIII при папском
дворе. Мазарини был уполномочен сделать предложение Урбану о том, что
Франция
обменяет теперь бесполезный для нее союз с Англией на союз с Баварией.
Как
оружие последней инстанции ему предоставили материалы на тему
'священной
войны'. Но, наблюдая более перспективные цели, чем временно
неповоротливую
огромную Османскую империю,
Мазарини работал под номинальным руководством кардинала Антониио над
возрождением мирного конгресса в Кельне. Там верный друг, Зонго Ондедеи,
был получателем детальных писем, полных практических советов и
размышлений о
мире. Мазарини также держал Ондедеи в курсе взглядов Ришелье и поощрял
его
подражать своему собственному продвижению 'от стола легата до более
высокого
поста'. Ондедеи был расстроен, когда стало понятно, что конгресс
никогда не
соберется; только после возвышения своего патрона он так же переехал
вслед за
ним во Францию, чтобы сделать более существенную политическую карьеру.
Тем
временем сам Мазарини усердствовал в заботе о собственных интересах в
Париже,
где его агент, любезный аббат Шарль,
уверял его, что люди, которые имели для него значение, были его
друзьями. Он не
смог получить аббатство Сен-Авольд (Saint-Avold), поскольку Конде (Condé) предъявил на него права. Но его
должны были воодушевить новости, что
Ришелье проинструктировал Буаробера (Boisrobert) придержать его новую пьесу до возвращения
Мазарини в Париж посланником. Мазарини мог также рассчитывать на
дружественный
интерес отца Жозефа, Сюбле де Нуайе,
нового военного министра и, прежде всего, Шавиньи, того, кто теперь
стал его
основным политическим корреспондентом.
Письма
от этих лет между двумя кандидатами на высшую должность, один из
которых был
действительным руководителем внешней политики у Ришелье, второй
надеялся
посвятить свои таланты службе Франции, являются важным источником
дипломатической истории того времени. Их стиль был высокопарным,
поскольку
Мазарини стремился подражать преувеличенному выражению, одобренному
среди
завсегдатаев салонов, и не в последнюю очередь этой восходящей звезде.
Таким
образом, Шавиньи пишет: 'я надеюсь на Ваше возвращение во Франции как
возлюбленного'
и ответ Мазарини: 'Тот, кто сказал бы мне, что я никогда не вернусь во
Францию,
объявил бы мне мой смертный приговор'. Аффектация Шавиньи вне обычной
гиперболы
корреспонденции между патронами и клиентами,
не должна предполагать наличие у него неискренности. Молодой
госсекретарь, отец
многодетного семейства, Шавиньи держал продвижение карьеры
итальянца-франкофила
под пристальным присмотром. Интересы испанской короны на тот момент в
Риме были
достаточно сильны, чтобы удерживать Мазарини при папе. Но и в Риме он
служил
Франции, все еще якобы работая на все более разочаровывающегося и все
более
неудовлетворенного жизнью папу Урбана и на кардинала Антонио, кредит
доверия
которого в римской курии испарялся вместе с испарением надежд на мир в
Германии.
Эти годы были расстраивающими для Мазарини, но при
этом и очень
важными, поскольку именно в этом периоде, когда он пытался
согласовывать
интересы своих патронов в Риме и Париже, его политическое обучение было
крайне
интенсивным. Он безуспешно пытался обеспечить для отца Жозефа шляпу
кардинала.
Эти попытки быстро отрезвлялись столкновением в курии с предубеждением
против
тех, кто действовал слишком открыто в интересах иностранного суверена.
Римский
папа отказывался продвинуть монаха и критиковал отца Жозефа за его
интриги в
отношении Империи. Напрасно Мазарини подчеркивал усилия капуцина по
уменьшению
власти гугенотов. Он посылал поток подарков, работал над созданием
профранцузской коалиции в Святой коллегии и даже попытался посредничать
между
надменным французским послом Д'Эстре
и Барберини, который был оскорблен характером француза (*впоследствии
одним из
первых его действий уже во французской дипломатии станет настаивание на
замене
в Риме Д‘Эстре – прим. перев.). Он зондировал среди
агентов враждующих сторон
возможности для предварительного перемирия, которое могло
способствовать
переговорам об общем мире; в особенности он стремился создать хорошие
отношения
между итальянскими государствами и Францией.
Савойе, всегда непостоянной, критически важной в
тонком балансе
Габсбурги-Бурбоны, Мазарини помог найти выход из тупика. Ришелье
приказал,
чтобы корреспонденция французского посла в Турине была доступна для
него.
Мазарини тщательно выстраивал свои отношения с Кристиной и ее
терпеливым мужем
Виктором-Амадеусом. Именно ему в значительной степени Ришелье обязан
тем, что
герцог согласился на открытый союз с Францией в соответствии с
соглашением в
Риволи в июле 1635. Гораздо труднее оказалось гарантировать
сотрудничество
между савойскими и французскими военачальниками. Однако, в сражении при
Монбландоне (Monbaldone) в сентябре 1637 герцог одержал победу над
испанцами и действовал
весьма смело. Месяц спустя, после банкета, данного маршалу Креки,
герцог и его
глава правительства, союзник Мазарини Веру (Verrue),
умерли после сильных конвульсий. Две
внезапные и таинственные смерти неизбежно дали начало темным слухам.
Подозрений
не избежала даже Кристина, имевшая в то время связь с Филиппом Д'Аглие.
Ее сыну, Карлу-Эммануэлю,
было только пять лет, и у нее перспективе было длинное регентство. Но
она в
результате не сделала ничего, чтобы увеличить свою власть, установив
Филиппа
губернатором Турина, который, став фактическим правителем Савойи, занял
позицию
нейтралитета, что не нравилось ни одному из государств, наиболее близко
заинтересованных
в Савойе. Император бросил вызов регентству Кристины на том основании,
что
Савойя являлась имперским феодом. Еще раз Мантуя была вовлечена в
вереницу
событий, которые должны были оказаться существенными для соперничества
между
Францией и Габсбургами, теперь уже почти равными в своих силах, а так
же для
карьеры Мазарини.
Невестка Карла Мантуанского, склоняясь к испанцам,
подписала с ними в
марте 1638 года соглашение, по которому она обязалась передать
Монферрато
вместе с крепостью Казале испанской короне. Французы, все еще имевшие
свой
гарнизон в Казале, проследили, чтобы губернатор Савойи был заключен в
тюрьму
раньше, чем он смог бы выполнить этот приказ. Оливарес был взбешен и
отдал
распоряжение занять княжество. Последовавшее за этим опустошение
испугало
Кристину и она обратилась за помощью к французской армии. Теперь
позиции были
более четко обозначены. Преданность императору Маурицио Савойского,
дяди ребенка-герцога, трудно было соблазнить, а Томà, другой
дядя Карла-Эммануэля,
генерал испанской армии, уже был послан в Савойю провести в жизнь
имперский
указ, повелевающий удалить Кристину от регентства. В 1639 году два
французских
генерала, Ла Валетт
и Аркур,
пришедший ему на помощь, предотвратили потерю Турина. «Эта
несчастная женщина»
- так называл Ришелье герцогиню, которая отказалась передать своего
сына на
попечение Луи XIII или позволить Франции стать
«защитницей» ее страны. Учитывая судьбу,
постигшую Лотарингию, ее сопротивление более чем понятно. Ситуация была
исправлена с помощью дипломатии Мазарини тогда, когда он уже снова
работал из
Парижа напрямую для Ришелье.
Мазарини всегда сочувствовал семье савойских
герцогов больше, чем
Ришелье и был более деликатен при работе с савойскими делами. Но, когда
возник
вопрос о том, чтобы заключением отдельного мира закончить войну Франции
и
Савойи с испанским Миланом, он отказался от этого. Очевидно,
несовместимость
его более ранних хлопот о мире в Италии с усилиями об общем мире в
Европе
сильно изменили его позицию. Он окончательно принял представление
французов об
Оливаресе как о неисправимом подстрекателе войны: дальнейший опыт Рима
это
только укрепил. Закоснелость испанских кардиналов не поощряла
переговоры. А за
их спинами кипучий Оливарес, напротив, накапливал военные доказательства,
что Испания еще может на что-то надеяться в этой войне. Поэтому
Мазарини в итоге
разочаровался в перспективе мира на любых условиях, кроме полного
поражения
Испании. Он видел в итальянском полуострове 'чувствительную точку'
испанской
язвы, истощавшую ее власть, как это имело дело в войне за Мантуанское
наследство. Он осторожно двигался к размышлениям отца Жозефа. Так же он
лелеял
идею, долго ценную для Урбана VIII, освобождения севера Италии от
испанского
присутствия: Рим был бы тогда более спокоен о своих собственных
северных
границах; Савойя осталась бы привязанной к Франции, и французы имели бы
в Италии
преимущество. Все это зависело, конечно, в первую очередь от
способности
франко-савойской армии одержать решающую победу. Это оказалось
недостижимым и
когда, в 1638, Франция и Савойя подписали перемирие с Императором,
испанцы
отступили. Именно так обстояли дела, когда в декабре 1638 года
появились
новости о том, что отец Жозеф умер.
Отца
Жозеф был целой легендой еще при жизни. «Разве это не
странная вещь, что демон
должен быть так близок к ангелу?» Эта анонимная надгробная
надпись выражает ту
загадку, которая до сих пор продолжает очаровывать. Некоторое
представление
возможно получить от этой неопрятной, рыжебородой фигуры с яркими
синими
глазами, которая упорно продвигала дела своего патрона, неся под серым
плащом и
капюшоном запечатанные инструкции короля Франции, создавая сети союза,
оставляя
следы недоразумения, и работая вместе, но иногда и позади официальных
королевских посланников. И все это было направлено к идее европейского
крестового похода, который, как он надеялся, возглавят Габсбурги, и
которым
тогда пришлось бы оставить ради этого свои светские цели в Германии,
Италии и
Нидерландах. За десять дней до объявления войны в мае 1635, отец Жозеф
говорил
о том, что его король желает 'универсального мира'. Возможно,
антигабсбургские
настроения владели им в меньшей степени, чем анти-испанские, так как он
был из
того поколения, которое знало присутствие испанских солдат на
французской земле.
Строгому капуцину может быть приписано искреннее замешательство
человека Бога,
пойманного в ловушку морального лабиринта: в какой-то мере развращенный
политикой, он сохранил до конца в себе определенную целостность и
трогательное
смирение.
В
Мазарини, который искал способы исполнить (хотя, возможно, и не слишком
усердно)
распоряжение Ришелье о получении кардинальской шляпы для отца Жозефа,
последний
признавал эксперта, а также, возможно и конкурента. Мазарини, конечно
подозревал, что отец Жозеф ревновал его к своим отношениям с
кардиналом. И все
же Ришелье оставался преданным сердцем и душой своему капуцину, взгляды
которого на дела государства, не смотря на их различные подходы, были
ему очень
близки. Смерть отца Жозефа была для него серьезным ударом. 'Наряду с
Богом - он
основное орудие моей удачи' -
так когда-то
отозвался о нем Ришелье. Потенциальный крестоносец оставил свой
памятник Турциад
(Turciad), эпические стихи, которые римский папа Урбан назвал
'христианской
Энеидой'. Мистик требовательной школы мадам Акари,
и Бене Канфилда,
он
мог соприкасаться с кардиналом в словах и путях, с которыми Мазарини
был
незнаком. 'Брейзах наш', как говорят, шептал Ришелье, ожидая, что это
сообщение
принесет радость умирающему человеку. Любовь к родине никогда не
вымещала в
отце Жозефе великую христианскую любовь. В одной из частей работы всей
своей
жизни, возглавляя конгрегацию Богоматери Голгофы
(Congregation of Our
Lady of Calvary), в письмах и размышлениях он написал несколько
миллионов слов.
Ришелье мог это понять. В период с 1636 по 1638, который был чреват
большими
неприятностями, он нашел время, чтобы составить свой трактат
«О христианской
безупречности». Их мир был миром взаимных симпатий и
разделенного восприятия, в
котором благочестие было политикой, и рядом с которым Мазарини мог
быть, в
большинстве случаев, только иностранцем.
Смерть
отца Жозефа оставила пустоту, которую итальянец не мог бы заполнить.
Однако он
мог взять на себя исполнение дипломатических миссий. Он имел достаточно
прочное
положение в Риме, чтобы надеяться на получение в скором времени
кардинальской
шляпы, которую Ришелье теперь просил для него. Сам главный министр был
не
совсем здоров: вопросом преемственности нельзя было пренебрегать,
поскольку
никакая другая причина не могла обеспечить непрерывность дипломатии в
решающем
положении дел в войне. А поскольку Ришелье старался изо всех сил
принимать меры
против любого, кто пробовал набирать политический вес, для того чтобы
бросить
ему вызов, то никакого очевидного преемника у него не существовало. Все
это
играло на руку Мазарини. А он играл с непревзойденным мастерством.
|