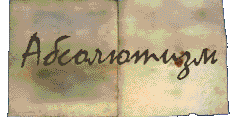
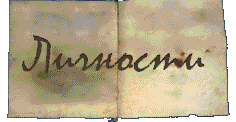
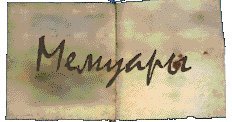
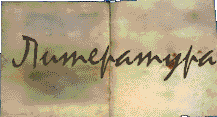

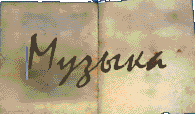
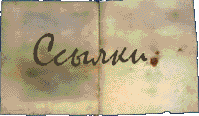
|
Перевод:
Alixis
ЧАСТЬ I.
ДЖУЛИО МАЗАРИНИ,
ПАПСКИЙ
ДИПЛОМАТ
.
«Не
раздумывай слишком много, иначе не успеешь измениться»
Франческо
Барберини
.
.
.
4. Первая известность
.
На своей встрече с Ришелье в Пиньероле,
состоявшейся в апреле 1630
года, Мазарини впервые познакомился с отцом Жозефом,
монахом-капуцином, который был доверенным лицом Ришелье. Он все еще в
то время
вынашивал идеи всеевропейского крестового похода против турок,
направляя
непосредственные усилия так, чтобы это сыграло в большей степени против Габсбургов. Личности и
взгляды этих двоих
мужчин едва ли могли быть сколько-нибудь похожи между собой. И
неизбежно, они
должны были стать, до некоторой степени, конкурентами. Аскетический
монах кое в
чем так и остался навсегда загадкой для Мазарини. Но на данном этапе он
послужил Мазарини и делу мира гораздо больше, чем это сделали Ришелье
или амбиции
самого итальянца. Мазарини пытался примирить друг с другом военных
руководителей. Когда политический контроль слаб, это обычно оказывается
намного
эффективнее, чем обращаться непосредственно к главнокомандующим. Но
власть
императора все еще кое-что значила, и он председательствовал на
рейхстаге в
Регенсбурге, созванном в июне 1630 года для того, чтобы обеспечить от
неподатливых принцев выборы своего сына королем римлян и должным
наследником
Империи.
Официальным агентом Ришелье в Регенсбурге был
Брюлар де Леон,
обладавший полномочиями «представить на рассмотрение общий
мир в Италии» и
подписать от имени правительства любой договор, который будет заключен
по этому
поводу. Не был ли Мазарини случайно тем человеком, который убедил
Ришелье в
необходимости посылки отца Жозефа в Регенсбург, для того, чтобы тот мог
реагировать на события в Северной Италии более гибко? Император был
согласен
предоставить Франции благоприятный для нее мир, но только на условиях
ее отказа
от своих союзников – Венеции, Голландии и Дании. А поскольку
немецкие
принцы-электоры уже получили свою главную цель, а именно –
отставку
Валленштейна, то они оказали отцу Жозефу небольшую поддержку; таким
образом, он
получил слабое сопротивление своим предложениям. Обратившись к
Максимилиану,
как к католику, он обнаружил, что такому аргументу за общий мир
сопротивляться
трудно. Максимилиан уже получил все что хотел – Верхний
Пфальц и должность
электора. Император тоже выступил «за», поскольку
он нуждался в солдатах из
Италии, чтобы справиться с новой проблемой: Густав Адольф только что
перешел в
наступление в Померании.
Мазарини получил новость о заключении соглашения
26 октября. После
этого последовала знаменитая сцена под стенами Казале, которой суждено
было
стать темой для разговоров при дворах и парламентах всех
заинтересованных и
хорошо осведомленных в данных делах государств. Сначала Мазарини извлек
из
испанцев обещание снять осаду. После этого он поскакал к передним
частям армии
Шомберга, крича «Мир! Мир!». В своем письме от 1638
года Мазарини написал
небольшой отчет о том, что должно было стать напряженным столкновением:
«Я
говорил публично приблизительно с четверть часа. Все согласились с тем,
что я сказал
и начали обниматься, так что больше нельзя было отличить французов от
испанцев,
но все казалось, были родными братьями, к изумлению армий, которые
полагали,
что они должны были участвовать в весьма кровопролитном бою».
Это была
интересная сцена, свет здравомыслия и человечности в темное время.
Ришелье восхищался первыми новостями о достигнутом
соглашении и
благодарил Мазарини. Художник в нем,
наверное, оценил удачный ход, оформленный coup de théâtre
(в театральном
стиле), поскольку попросил издателей популярных газет разместить
гравюру, на
которой галантный всадник размахивает своим пергаментом. Эта публикация
впоследствии породила слухи, что он (*Ришелье) руководил делом
закулисно уже
после предшествующего соглашения. Но как раз таки маловероятно, чтобы к
этому
приложил свою руку Ришелье, поскольку, когда он прочитал и понял полный
текст
соглашения, то впал в бешенство. Он видел в окончании Мантуанского дела
способ,
который мог бы задержать, а может даже и вовсе остановить победное
продвижение
Габстургов. Кроме того, он был обеспокоен Лотарингией. Герцог Карл дал
убежище
некоторым из самых опасных врагов Ришелье, особенно герцогу де Гизу,
чье имя вызывало в памяти тревожные воспоминания о временах Религиозных
войн. В
сентябре 1630 года, вместе с генералами Марильяком и Бассопьером,
подстрекаемый
сообщениями, что король смертельно болен, Гиз попытался решить
дальнейшую
судьбу Ришелье. Луи выздоравливал, но был еще слишком болен, чтобы
сопротивляться аргументам врагов Ришелье.
Они обвиняли его в том, что действия в Мантуе были
противны интересам
церкви, являлись пустой растратой ресурсов, которые могли бы быть
использованы
с большей эффективностью внутри Франции для борьбы с гугенотами и
еретиками. Но
даже и без моральной поддержки папы римского Ришелье трудно было бы
изменить
свою политику. Он играл по крупному и не мог себе позволить предать
своих
союзников за неосязаемые льготы итальянского мира. Недавний эдикт о
Реституции,
которая могла быть произведена только военной силой, не оставлял
надежды, что односторонние
действия, требуемые Регенсбургским соглашением, гарантируют мир в
Германии.
Таким образом, он отказался его (*соглашение) ратифицировать.
Формальные
причины состояли в том, что сроки в нем были слишком неопределенны, а
так же
то, что посланники были уполномочены рассматривать только итальянские
дела.
Такая смелая демонстрация высокой дипломатии не
могла не произвести
сильного впечатления на осторожного итальянца. В то время, как оба
габсбургских
двора кипели справедливым негодованием, неофициальный агент Ришелье
Шарансе
ведет переговоры со шведами: предполагаемое соглашение относительно
Барвельда
в январе 1631 года состояло в том, чтобы предоставить Густаву-Адольфу
средства
для его дальнейшего вторжения в Германию. Ожидая, что испанцы снова
предпримут
попытку осады Казале, Ришелье отдал приказ о введении туда французского
гарнизона. Тем временем он укрепил свое положение внутри двора. В
начале ноября
король «обманул» ожидания
«благочестивых» и фракцию испанофилов, утвердив
Ришелье в его должности: «я чту свою мать», сказал
король, «но мои
обязательства перед государством выше, чем перед ней».
Ришелье со своей стороны
не замедлил продемонстрировать королю свою преданность,
«предоставив
доказательства того, что он был самым преданным подчиненным и самым
рьяным
слугой, которого когда-либо король или господин имели в этом
мире». Мазарини
убедил папу римского послать его в Париж
для того, чтобы прозондировать настроения
французского министра и
поработать в направлении итальянского мира. Возможно, однако, что он
собирался
работать с Марильяком. Но в свете последующих событий именно триумф
Ришелье
стал еще одной вехой в удачливой карьере Мазарини.
О первом посещении Мазарини Парижа в январе 1631
года известно крайне
мало. Согласно нунцию Алессандро Бики,
он был принят «радостно при этом дворе, где он уже известен и
где память о его
храбрости еще является свежей». Он пробыл там порядка трех
месяцев, прежде чем
отбыть в Северную Италию на новый раунд дипломатических переговоров.
Ничего в
его письмах того периода не отражает его чувств от первого посещения
города.
Как и Рим, Париж в то время является большой строительной площадкой для
множества новых зданий, но ни один проект не был более честолюбив, чем
дворец,
который Жак Ле Мерсье
создавал для Ришелье на улице Сент-Оноре (St Honoré). Без
сомнения, Мазарини в
это время полностью поглощен делами людей, победивших в его выборе.
Главным из
них был Абель Сервьен,
военный министр с 1630 года, в последствии ставший известнейшим
французским
дипломатом. Он был одной из самых способнейших креатур,
от лояльности которых зависел главный министр. Теперь он работал над
превращением итальянца в доверенное лицо, отстаивающее французские
интересы.
Мазарини был в курсе, что Сервьен передает все сведения о нем Ришелье,
поэтому
заботился о том, чтобы понравиться: он делился с ним всеми своими
заботами – от
дохода недавно назначенного ему французского аббатства до схем
универсального
мира. Возможно, что французы думали, что Мазарини у них в кармане. Но
имелись
признаки и взаимного доверия.
Другой важной дружбой была дружба с Шавиньи,
молодым госсекретарем, в доме которого квартировал Мазарини. Два
перспективных
молодых человека предполагали, что каждый из них может быть чем-нибудь
полезен
для другого: Мазарини знал Шавиньи как человека, близкого к Ришелье;
Шавиньи же
пока еще не боялся конкурента. Двойная роль, которую вынужден был
играть
Мазарини, пока еще не мог прямо работать на французского короля,
возможно,
беспокоила бы человека менее уравновешенного; но он работал осторожно и
доказывал, что имеет хорошую осведомленность в делах. От Мирабеля
(Mirabel),
испанского посла, он узнавал о секретных отношениях между
королевой-матерью и
Мадридом. Ришелье очень быстро оценил его потенциальные возможности для
себя.
Он просит французского посла в Ватикане содействовать всеми силами
обеспечению
Мазарини должности папского нунция в Париже и пишет по этому поводу в
письме
для папы Урбана VIII: «Я не знаю никакого другого человека,
от которого бы Святой престол
мог получить больше пользы на этом месте, чем от него».
Осознавая, что враги
могут выставить его в неблагоприятном свете, Ришелье явно беспокоился
об
удержании преданности Мазарини к себе. Таким образом, он однажды
просил, чтобы
Сервьен «гарантировал сьеру Мазарини, что все, что ему
сказали обо мне, ложно и
что я люблю и уважаю его настолько, насколько он этого может
желать».
«Папа не может желать на своей службе
более достойного или умного
министра». Соглашение по Кераско (Cherasco), подписанное в
июне 1631 года дало
Италии тот мир, о котором молился папа Урбан: как и у Сервьена, у него
была для
своего легата только лестные слова. А Ришелье доверял ему достаточно,
чтобы
потребовать, чтобы он обсудил отдельно каждый пункт соглашения с Фериа
(Feria),
испанским губернатором Милана. Это была первая крупная дипломатическая
миссия,
которая подтвердила Мазарини хорошую дипломатическую репутацию. Что же
касается
фактических условий, то здесь он извлек достаточно важный опыт, который
впоследствии пригодится ему на других больших аренах. События в
Германии
сократили итак небольшое герцогство Мантую до смешных размеров. И
Тилли,
осаждающий Магдебург, и Густав, обдумывающий его каждое следующее
движение,
были не против позволить Неверу вступить во владение герцогством,
разрушенным
войной и чумой. Испанцы, однако, были разгневаны и угрожали остановить
переговоры, когда Ришелье, предъявляя свои права на Пиньероль, все же
обеспечил
их, не смотря на дополнительное соглашение, о котором договаривался
Мазарини.
Ришелье тогда вежливо объявил, что оккупация временная. Но к концу года
его
обеспокоили дела в Германии и гарнизон так и остался в Пиньероле.
Следующая дипломатическая миссия привела Мазарини
в Париж в апреле 1632
года всего на шесть недель. Тогда же он был впервые представлен при
дворе
королеве Анне самим королем. Его внешность и манеры понравились
королеве. «Вам
понравится Мазарини», якобы сказал ей тогда Ришелье,
«он похож на Бэкингема».
Среди особенностей, которые вызывали к нему любовь женщин, была его
жизнерадостность, хорошо выраженная в его письме к Сервьену, который
был тогда
в Турине, и в котором он сообщал, насколько женщины там скучали по
нему: при
описании своего посещения «особняка» в Сен-Клу
(Saint-Cloud) он приходил в
восторг: «как много красивых женщин, все - великолепны (*в
оригинале звучит
более хлестко - «имеют превосходные данные»), все
– совершенны!». Это тем более
впечатляет, потому что он никогда не забывал ни о главной цели своей
миссии, ни
избегал работы. Целью же его приезда было убедить французское
правительство
поддержать избрание нового герцога Савойского, шурина Луи XIII,
Виктора-Амадеуса.
Ришелье, конечно, стремился иметь Савойю в союзниках, но был не готов
платить
слишком высокую цену за это: например, ссорой с дружественными ему
швейцарцами.
А недавняя итальянская компания показала, что склонить Савойю на свою
сторону
можно и путем демонстрации военной силы. Так, когда Мазарини предложил
отдать
Савойе Женеву вместо Пиньероля, Ришелье осторожно ответил, что если
Савойя
завоюет Женеву, то ее должна будет получить Франция, а взамен герцогу
могли бы
предложить Во (Vaux). На пути назад к Риму Мазарини посещает Турин,
чтобы
уведомить легковерного Виктора-Амадеуса, что его план союзничества с
Францией
скорее мертв; вежливо выслушать другой проект герцога, по которому
Мазарини требовалось
найти способ обеспечить поддержку папы для его военной операции по
возврату
Кипра.
И, как всегда, делая часть своих важных дел через приятные светские
рауты,
Мазарини обхаживал герцогиню.
Этот эпизодический визит в Париж усилил отношения
Мазарини с Ришелье,
для кого, как и для других министров, он генерировал постоянный поток
подарков
из Рима: духи, ароматизированные жасмином перчатки, и, для самого
кардинала,
прекрасные произведения искусства. Постоянно изыскивая способы усилить
свои
связи и поддержку во Франции, он пытается играть на уравновешивание
интересов
французского двора, с которым после 1631 года открыто объединяется
Швеция, и
интересами Рима, в котором сильная испанская фракция пыталась любыми
способами
помешать проектам Ришелье. Но Урбан VIII был больше не уверен в том, что ему необходим
союз с Францией. При
этом Мазарини скорее всего верил в разумность политики Ришелье, что на
самом
деле в тот момент стояло под большим вопросом, особенно после того, как
Густав
погиб при Лютцене (ноябрь 1632), а шведы потерпели сокрушительное
поражение при
Нордлингене в августе 1634 года.
Но нет никаких свидетельств тому, что Мазарини изменил своему мнению.
Испанцам
же он вообще казался открытым приверженцем Франции. Именно об этом
периоде
Виктор Кузан пишет: «каждый чувствует, что он находится в
отчаянии из-за
наличия вокруг него пустоты, а так же слишком робких и посредственных
людей:
энергию, решительность и последовательность он находит только во
Франции». Все
это – едва ли справедливо для описания папы Урбана, мечты
которого о мире в
Европе и крестовом походе сияли, как дымка от высокой температуры
римского
лета, над реальностью фактов династической войны; и тем более не
соответствует
прилежному Франческо Барберини, который искал средний путь, проявляя
проницательность и беспристрастность в своих инструкциях. Мазарини не
хотел
терять его из своих патронов. Он пишет ему, информируя обо всех своих
предпринимаемых действиях: тон его писем конфиденциальный, трепетный, с
едва
управляемым чувством безотлагательности.
И в то же время Мазарини продолжал обхаживать
более податливого Антонио
Барберини. Он обожал его компанию и ценил его вкус. Антонио использовал
услуги
лучших архитекторов, живописцев и музыкантов, и имел в запасе
достаточно денег
на щедрые, интересные и значительные подарки. Находя его менее
требовательным
патроном и более приятным другом, чем Франческо, Мазарини старательно
пытался
продвинуть его ближе к центру власти. «Настало
время», писал он в 1630 году,
«для кардинала-легата уехать из его мирной резиденции в
Болонье и сделаться
своим среди принцев, генералов и полномочных представителей, которые
держат
судьбы наций в своих руках». Но мысли Антонио жили более
легкими планами: для
такого чувственного человека приукрашивание Рима было самой
значительной
амбицией. Увы, усилия Мазарини были бессильны сделать из его патрона
государственного деятеля. Но, тем не менее, Антонио восхищает его своей
любовью
к высоким искусствам – и Мазарини учится у него этому. К тому
же материальная
поддержка, которую кардинал оказывал своему протеже для продвижения его
карьеры, тоже была существенной. И все это, когда кардиналы Барберини
окажутся
в трудном положении, он не забудет.
В течение того периода, что Мазарини провел под
покровительством
кардинала Антонио, он стал гораздо большим эстетом, а так же человеком
церкви,
чем был. Сложно писать о чьей-либо вере, не имея на то достаточного
количества
его собственных утверждений и намеков. Мазарини оставил крайне
небольшое количество
собственных мыслей в этом направлении. Явно в них только одно
– он не слишком
был уверен в пользе чистого богословия для себя; возможно, не в
последнюю
очередь в этом сыграло пресыщение теологией во время его обучения в
иезуитском
колледже. И снова, в отличие от Ришелье, он не оставил нам никаких
религиозных
сочинений. Его переписка с сестрой Анной-Марией была в основном
односторонней:
она постоянно давала ему советы о вере и делах и, кажется, он ценил ее
советы.
Но при этом совершенно ясно, что его нельзя было отнести к
«благочестивым». Его
религиозность, как это можно предположить, была похожа на религиозность
большинства итальянцев: не подвергаемая сомнению, естественная, как
сама жизнь,
удобная, как часть домашней жизни и нетребовательная. Вероятно, это все
шло от
солнца и от щедрости Бога, который даровал наибольшее изобилие тем, кто
трудился в его винограднике и управлял им. Он был из поколения,
отмеченного
святой жизнью Карло Борромео
и последователями его пасторского стиля, который славился своей
мягкостью и
практичностью. Так же он был знаком с работами любимого святого
французов
Франсуа Сале,
ранее переведенного на итальянский язык. Большая часть учения Сале
заключалась
в том, что благочестивая жизнь должна быть счастливой жизнью, так как
жить в
соответствии с желаниями бога означало жить в соответствии со здравым
рассудком
и данными богом инстинктами. Идеальный христианин не должен избегать
мира, но
искать в нем путь, который подходил бы ему лучше всего.
Бог Мазарини был далек от бога отца Жозефа,
который стремился обучать
ум и наказывать тело; так же он был далек и от бога янсенистов, которые
относились со строгими предубеждением ко всем тем, кто, как Мазарини,
по их
мнению, верил слишком «слегка». Все это не столько
нюансы понимания или стиля, сколько
фундаментальные различия, которые впоследствии будут иметь значение в
контексте
французской политики. Тем не менее, дружелюбное лицо христианской веры,
отраженное в благородных действиях и примирительных манерах, показанных
молодым
дипломатом, настаивающем на мире через компромисс, кажется, показало
наличие у
него веры гораздо более глубокой и не какие уж нездоровые моральные
устои, как
это вскоре начали утверждать его критики.
А пока еще каноник соборов Сан-Иоанн Латерано (St
John Lateran) и
Санта-Мария Маджоре (Santa Maria Maggiore)(*Губер, однако утверждает,
что сан
каноника в Сан-Иоанн-Латерано был ему дан вместо места каноника в
Санта-Мария-Маджоре, а не обе должности он получил одновременно
– прим. перев.)
не стремился получить посвящение. Впрочем, римские папы часто имели
обыкновение
таким образом обеспечивать доход от таких приходов для своих
родственников или
чиновников. Изменения относительно его места в церковной иерархии
впервые
появились после его приезда в Париж в 1632 году, вместе с советом,
который
мягко намекал ему на путь, желательный для Рима: «Было бы
уместно для Вас
согласиться, по крайней мере, на первую тонзуру». Таким
образом, нунций Бики
выстриг в его волосах символический участок, который оставил фактически
невредимыми его роскошные локоны, но отметил его статус клирика. Это
был его
первый, а так же последний священнический шаг. Иногда позже он говорил
о своем
желании стать священником, но, вероятно, без серьезного намерения. Для
тех
целей, которые преследовал он для себя или для своих патронов
– римского папы
или французского короля, такое призвание было ненужным. Он обязан был
носить
одежду духовного лица – знак принадлежности церкви. Кроме
того, он был возведен
в должность папского апостольского протонотариуса и стал прелатом,
приближенным
к папе римскому и наделенным правом на фиолетовую рясу и обращение
«монсеньер».
У него были средства для того, чтобы не только поддерживать нужный
стиль жизни
для чиновника его ранга и содержать семью, но также иметь необходимый
для
работы персонал. Соответственно, финансовое благополучие не было тем
вопросом,
который мог бы поставить под сомнение необходимость в его службе
римскому папе.
В августе 1634 года он с большим удовольствием подписал два контракта,
которые
принесли в семью две фамилии: Мартиноцци и Манчини: «я выдал
замуж двух моих
сестер с приданым 40 000 ливров за каждой»
Обеспечение сестер и, позднее, племянниц, было
ответственностью, к
которой Мазарини всегда относился серьезно. Семья (casa)
должна быть
поддержана и усилена, а честь и богатство всегда были двумя сторонами
одной и
той же монеты. Приданое было получено от папы Урбана через
посредничество
кардинала Антонио. Разве что-то было жалко для таких деловых отношений,
если
все равно они были оплачены десятиной и арендной платой верующих?
Римский папа
так же легко, как и его потакающий любым своим желаниям легкомысленный
племянник, и его честолюбивый новый прелат, принимал логику
политического
учреждения, которое также было и доходным делом: ценные приходы должны
были
использоваться для поддержания бюрократии церкви и обеспечивать службу
талантливых людей. Теперь монсеньор Мазарини все реже и реже испытывал
приступы
растерянности, размышляя о том, куда стоит развиваться его карьере. Он
был не
менее честным католиком и не менее рьяным слугой папского престола,
найдя свое
призвание в решении трудных задач в дипломатии. Отныне служебный долг и
личные
склонности указывали ему на то направление, которое, должно быть время
от
времени, могло ему казаться лучшим из всех политических миров.
Значительную часть своего времени Мазарини
проводил в палаццо
Барберини, или на вилле своего младшего патрона, расположенной в Банье,
около
Витебо. Франческо ревновал к возрастающей репутации своего брата и его
увеличивавшейся политической роли, к которой его стремился продвинуть
Мазарини.
Урбан же, однако, видел свои преимущества в конкуренции между братьями,
которая
помогала ему делать их обоих гораздо послушнее своей воле. Поддержание
стиля
жизни кардинала Антонио напрягало папскую казну, поэтому Мазарини
неплохо
преуспел в том, чтобы убедить Антонио стать, наряду с кардиналом
Маурицио
Савойским, со-защитником французских интересов в курии, поскольку
Ришелье готов
был нести определенные затраты на их поддержание. Таким образом,
Мазарини
сохранил за собой пути для бегства, которые были бы закрыты для него,
если бы
его приверженность французским интересам выражалась бы более прямыми
способами.
Антонио был обязан, по своим формальным обязанностям (*он был легатом
Авиньона
– конклава Рима на французской территории – мое
примеч.) представлять французские
интересы. И, если бы результат этих усилий был бы неблагоприятен, а
папская
политика приняла бы более явный испанский оборот, то не было ничего
такого, что
могло бы быть поставлено в вину Мазарини, так как его патрон только
выполнял
свои надлежащие функции: по крайней мере, не больше, чем может быть
поставлено
в вину защитнику, который проиграл дело в суде, действующем по нормам
общего
права.
Играя в ту политическую игру, которая больше всего
его удовлетворяла,
Мазарини так же с жаром включился и в культурную жизнь, которая делала
из Рима
чрезвычайно притягательное место, особенно для тех, кто имел привилегию
на вход
во дворцы, сады и частные театры. Впрочем, кое-что перепадало и для
обычных
граждан, которые могли восхищаться великолепными фасадами, наблюдать за
художниками в работе, ходить в церкви, наблюдать новую штукатурку и
новые
краски, гулять вокруг новых скверов и задерживаться около охлаждающих
своими
брызгами фонтанов. Конечно же, они испытывали часть того восхищения
современного посетителя памятников великого города, который тогда
создавался у
них на глазах. Очень немногое из частной жизни знати могло избежать
любопытных
глаз римлян. Когда в 1641 году Мазарини купил палаццо Бентиволио,
толпы народа приходили туда каждый вечер, чтобы восхититься им,
осмотреть
сделанные изменения и даже поиграть в футбол во внутреннем дворе.
Римляне
гордились своим городом. Город был основой их чувства собственного
достоинства,
и даже осознания цивилизованного превосходства, которое должно было
поддерживать вице-легата в удалении в Авиньоне, кардинал-министра в
испытании
высшей властью, и в изгнании. Где, он мог бы спросить того, кто осуждал
его
страну, великие французские живописцы совершенствовали свою
художественную
технику? Где жил самый великий и самый достойный восхищения скульптор,
известный миру? Куда люди приезжали, чтобы услышать самую прекрасную
музыку и
увидеть новые, достойные восхищения оперы?
Собственное отношение Мазарини к искусствам не
было поверхностным или
корыстным. Эстетический вкус тренировался острым наблюдением и
восхищением
объектами красоты, чтобы много позднее переродиться в манию
коллекционирования.
Для человека, который очень зависел от компании друзей, которые
выражались
характерно, как один, в длинных экспансивных письмах, Мазарини имел
некоторую
степень автономности, обладая стойкостью и гибкостью одновременно,
которые стали
более очевидны, поскольку он в итоге превратился в государственного
деятеля.
Частично это может быть приписано его ранним успехам и опыту встреч с
великими людьми
на равных; частично – обогащенной восприимчивости, которая
превращала опытного galantuomo
в человека хорошо выраженной
индивидуальности и по праву пребывающего у
власти: качества, в которых он, несомненно нуждался, если хотел
преуспеть в
своем следующем назначении.
|